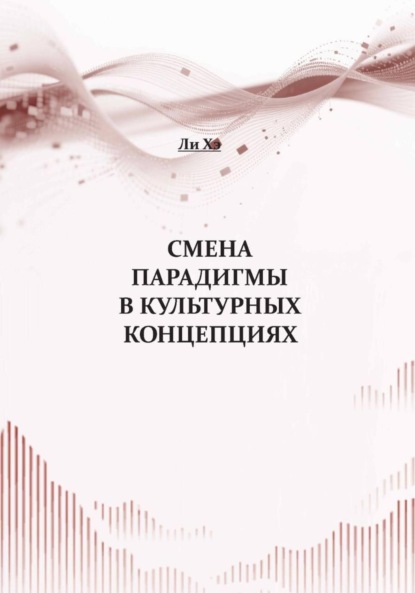
Полная версия:
Смена парадигмы в культурных концепциях
Судя по всему процессу политики реформ и открытости, в этом докладе признается, что 10 лет, прошедшие с начала века, стали новым этапом в реформе культурной системы и современной трансформации культуры. На данном этапе есть две, казалось бы, противоположные характеристики:
Во-первых, сфера развития культуры впитала в себя концепцию “роста”, которая изначально была присуща исключительно экономической сфере, и рассматривает “рост (культурного ВВП)” как один из важных показателей для измерения уровня культурного развития. Знаковой отправной точкой этого изменения стало подтверждение политической легитимности темы “индустрия культуры” на Пятом пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Китая 15-го созыва в 2000 году. Воспользовавшись этим поворотным пунктом, мы совершили прорыв в новом этапе реформ системы культуры, который положил начало процессу реструктуризации всей сферы культуры, сделав культуру еще одной “горячей темой” институциональных реформ после экономической сферы.
Во-вторых, вопреки тенденции сферы культуры, направленной на усвоение концепции “роста”, Китай с нового столетия глубоко осознал негативное влияние метода разработки “теории роста исключительно ради роста ВВП” и сформировал новую концепцию развития, названную “научной концепцией развития” на макростратегическом уровне. Важным содержанием вышеуказанной концепции развития является превращение культуры в важный и направляющий показатель для измерения степени экономического и социального развития. Соответственно, в сфере культу ры была сформирована “новая концепция культурного развития”.
В данном контексте политика в области культуры с начала века проводилась по следующим трем основным направлениям: в 2000 году государственная авторитетная политика в области культуры утвердила тему “индустрии культуры”; в 2003 году государство приступило к пилотной реформе системы культуры, направленной на реструктуризацию всех сфер, а в 2005 году государство выступило с инициативой создания общественных услуг в области культуры, ориентированных на реализацию культурных прав граждан. 2000, 2003, 2005 годы, “индустрия культуры”, “реформа системы культуры”, “общественные услуги в области культуры” – это три периода и соответствующие им три основные темы, которые составляют 10-летнюю “дорожную карту” политики в области культуры Китая.
Следует отметить, что вышеперечисленные три основные темы возникли не в течение этих 10 лет. Некоторые из этих тем существовали еще на ранних этапах реформирования системы рыночной экономики, и они получили “поддержку” (endorsement) на уровне национальной макрополитики в области культуры только после длительного процесса “стремления к признанию”.11 Такое одобрение придает этим темам свежий и даже совершенно новый смысл.
Очевидно, что для того, чтобы точно резюмировать содержание поэтапной политики в области культуры за 10 лет и, исходя из главного, ясно понять значение современных трансформаций в реформе системы культуры Китая, мы не можем не задуматься об общем процессе политики реформ и открытости за последние 30 лет, и нельзя не упомянуть о тенденции развития новой волны глобализации. Недавно во многих регионах Китая были последовательно опубликованы документы, посвященные 30-летию политики реформ и открытости. В отличие от этого, общий обзор 30-летнего процесса культурного развития не очень богат литературой, и в настоящем докладе предпринята попытка восполнить этот недостаток. Однако по сравнению с другими областями, такими как экономика, общество и др., обзор и оценка культурного развития сопряжены с рядом трудностей. Это происходит не только потому, что культура – это гибкий объект, который трудно понять, и не только потому, что этот объект затрагивает множество деликатных идеологических вопросов, но и потому, что нам не хватает теоретической основы, подходящей для наблюдения и описания культурного развития, систематической и последовательной системы показателей для измерения культурного развития, зрелой системы государственной политики, подходящей для оценки специфического культурного развития Китая, и независимого дискурса, который может раскрыть логику современной трансформации китайской культуры. Мы глубоко убеждены, что обзор 30-летнего периода политики реформ и открытости в целом требует не только экономического дискурса и социологических норм, но и культурного ракурса с философским осмыслением. С этой целью в настоящем докладе вводятся и даже создаются некоторые новые концепции, в том числе так называемые “стремление к признанию”, “существующие утверждения и добавленные утверждения”, “от единства сфер к разделению сфер”, “герменевтика институциональных изменений” и так далее.
Таким образом, в этом докладе мы надеемся показать, что всеобъемлющие и постепенные институциональные изменения за 30 лет политики реформ и открытости составляют основу изменений в политике в области культуры Китая за последние 10 лет. И наоборот, изменения в современной политике в области культуры Китая также сыграли важную роль в трансформации страны от старой системы к новой. В настоящем докладе предполагается рассмотреть шесть аспектов:
Первый – международный контекст политики в области культуры Китая: глобализация и внешняя политика в области культуры
Второй – механизм принятия решений, структура текста и метод интерпретации политики в области культуры Китая
Третий – 2000 год: Подтверждение легитимности индустрии культуры.
Четвертый – 2003 год: Новая концепция культурного развития и новый этап реформ системы культуры.
Пятый – 2005 год: Построение системы общественных услуг в области культуры по совершенно новой модели.
Шестой – заключительный: Проблемы и пути их решения в развитии современной китайской культуры
I. Международный контекст политики в области культуры Китая: глобализация и внешняя политика в области культуры
Политика в области культуры Китая преисполнена независимостью. Однако, чтобы провести политическое исследование по этому вопросу, мы должны взять в качестве образца для сравнения развитие современной зарубежной политики в области культуры. Такой образец для сравнения помогает нам понять, имеют ли идеи и меры культурного развития Китая прямое или косвенное отношение к международному сообществу, и помогает сравнить китайскую модель культурного выбора с политическим выбором других стран, чтобы предоставить богатый материал для сравнительного изучения политики. Но самое главное – он помогает нам прочувствовать современные веяния, привнесенные новой волной глобализации. “Глобализация” – это многогранная концепция, и люди могут высказывать по этому поводу свои мнения. Экономисты всегда подчеркивали ее экономическое значение. Например, Дэни Родрик определил глоба лизацию как “международную интеграцию различных товаров, услуг и рынков капитала” в книге «Зашла ли глобализация слишком далеко?». Это определение может быть распространено практически в глобальном масштабе. Фрэнсис Фукуяма описывает свое видение глобализации с точки зрения политики и исторической философии терминами “конец истории”, “универсальная всемирная история” и “гомогенизация” или “однородное” общество. В предисловии к книге «Плоский мир» Томас Фридман взял за отправную точку падение Берлинской стены, разделявшей Восток и Запад, заявив, что “миру 10 лет”, “эре глобализации 10 лет” и “мы все в одной лодке”.12 Кроме того, существует “глобализация” с точки зрения социологов, а также “глобализация” в культурном смысле. Что касается культурного значения, то Робин Керн и Пол Кеннеди в книге «Глобальная социология», опубликованной в 2000 году, отметили: “Глобализация – это не только экономическая глобализация… Глобализация – это тоже своего рода связь. Образы, идеи, путешественники, иммигранты, ценности, мода, музыка и т. д. – все это находится в постоянном движении на пути глобализации.”13
Следует отметить, что независимо от того, сколько существует значений, существует важное философское различие между термином “глобальный” (global) в западном контексте и его синонимом “международный” (inter-national): “Международный” можно буквально перевести как “межгосударственный” – это “наднациональное” значение существует с древних времен. Однако понятие “глобальный” – это не только “наднациональный”, но и в большей степени “надгеографический”. С этой точки зрения был получен ряд принятых утверждений, таких как “современность”, “прогресс” или “универсальная ценность” и т. д. Стоит отметить, что надгеографичность составляет существенную структуру рациональности, науки и техники, а также рыночной экономики новой и новейшей истории. Поэтому Иммануил Валлерстайн14 подчеркнул, что, хотя возникновение современного капитализма носит географический характер и он “не охватывал весь мир” в начале его возникновения, это была “мировая система” с самого начала. Именно из-за этой “надгеографичности” капитал и ресурсы, современность и традиции, универсальная рациональность и региональные культуры, и т. д. с самого начала представляли собой гибкую интерпретацию “глобализации”.
Процесс глобализации, который воплощает в себе природу рыночной экономики новой и новейшей истории, существует уже несколько столетий. Однако с 70-х годов прошлого века развитые страны в целом вступили в новый период. В знаковых литературных произведениях этот период по лучил множество названий, таких как “постиндустриальная эпоха”, “третья волна” (или “мегатренд”), “цифровая эпоха”, “эпоха символического производства и потребления”, “постмодерн” и т. д., но все они могут быть объединены под одним названием, а именно “новая волна глобализации”. Стоит подчеркнуть, что так называемое “новое” в новой волне глобализации подразумевает тесную взаимосвязь с культурным развитием. Очевидная тенденция такова: начиная со второй половины прошлого века, благодаря революции в области медиатехнологий, современная “экономика знаний” и “экономика культуры” (так называемые “экономизация культуры” и “культуризация экономики”) быстро развивались, и культура все чаще принималась международным сообществом как показатель уровня экономической и социальной культуры. Хотя люди еще не уверены в том, что беспрецедентный рост потенциала производства в области культуры, транснациональное распространение составных элементов культуры и проникновение культуры в экономическую и социальную жизнь являются отличительными признаками новой волны глобализации, которые отличают ее от предыдущей глобализации, но, по крайней мере, можно сказать, что “развитие культуры” является важным направлением новой волны глобализации, и возникающие в результате этого дискуссии об общечеловеческих ценностях / множественности ценностей, моде / традициях, культурной конкуренции / культурной безопасности и материальной экономике / симулякрах приобретают новое содержание.
Тридцать лет назад глобализация все еще была для Китая чем-то далеким. Однако менее чем через 10 лет после политики реформ и открытости (в 1987 г.) Китай начал переговоры о возобновлении действия Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ). В 2001 году Китай официально вступил в ВТО. Политика реформ и открытости позволила Китаю добиться значительных успехов в экономическом и социальном развитии. С 90-х годов прошлого века тема “Как понимать новую волну глобализации” стала актуальной в китайских научных и политических кругах. Это также является главной темой 10-летней политики в области культуры Китая. В коммюнике Пятого пленума Центрального комитета Коммунистической партии Китая 15-го созыва, состоявшегося в 2000 году, говорилось, что необходимо “активно реагировать на новую растущую экономическую глобализацию, стремительное развитие научно – технической революции, ускоренные темпы реструктуризации промышленности и обострение международной конкуренции”. Эта точка зрения была более четко выражена в «Рекомендациях Центрального комитета Коммунистической партии Китая по разработке Десятого пятилетнего плана национального экономического и социального развития», принятых на совещании: «Информатизация является основным трендом современного мирового экономического и социального развития… необходимо соответствовать развитию информационных технологий в мире… способствовать интеграции информационной индустрии со смежными индустриями культуры». В начале культурной части доклада 16-го съезда Коммунистической партии Китая в 2002 году указывалось: “В современном мире культура, экономика и политика тесно переплетаются друг с другом, и их статус и роль в борьбе за всеобъемлющую государственную мощь становятся все более заметными. Сила культуры чрезвычайно глубоко интегрирована в жизнеспособность, созидательную силу и сплоченность нации”.15
В приведенной выше литературе есть несколько моментов, которые заслуживают особого внимания. Материалы Пятого пленума Центрального комитета 15-го созыва показывают, что возникновение современной “индустрии культуры” тесно связано с современной революцией в области информационных технологий; во-вторых, заключение доклада 16-го съезда о “взаимной интеграции культуры, экономики и политики” отражает точную интерпретацию характеристики сегодняшней новой волны глобализации; в-третьих, в заключении 16-го съезда на тему “Статус и роль культуры в борьбе за всеобъемлющую государственную мощь становятся все более заметными” кратко излагаются основные мотивы, побуждающие многие страны уделять повышенное внимание разработке политики в области культуры; в-четвертых, громкая презентация термина “созидательная сила” на 16-ом съезде является основным ключевым словом политики в области культуры современных стран ЕС, которая будет обсуждаться ниже.
Прежде чем обсуждать политику в области культуры развитых стран на тему “созидания”, необходимо кратко изложить историю западной политики в области культуры. Как упоминалось ранее, политика в области культуры относится к “ценностям и принципам, которыми руководствуется определенное социальное сообщество при решении культурных вопросов”. В этом широком смысле политика в области культуры, отражающая волю страны, не является исключительно современным явлением. Начало “политики в области культуры Франции” указывает на то, что ее истоки восходят к политике королевского патронажа культурных мероприятий более 200 лет назад. То же самое верно и для стран с длительной историей, таких как Великобритания, Россия и Швеция. Даже в такой молодой стране, как США, основные нормы управления культурой восходят к Первой поправке к Конституции, которая появилась в конце 18 века. Однако культура относительно недавно стала вопросом государственной политики, получившим широкое внимание на Западе, поскольку концепция “публичности”, которая направлена на то, чтобы подчеркнуть надпартийный общественный интерес и защиту основных прав граждан, сформировалась сравнительно недавно. Некоторые ученые считают, что 50 – 80-е годы 20-го века были отмечены “этапом становления современной системы управления культурой”. После 80-х годов наступил “этап корректировки и реформирования методов управления культурой”16 – этот период совпадает с началом политики реформ и открытости Китая.
После 80-х годов прошлого века произошли два важных явления, на которые стоит обратить внимание: первое – это усилия международного сообщества по продвижению политики в области культуры, а второе – кульминационный момент разработки политики в области культуры под руководством развитых стран.
С точки зрения международного сообщества, организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) провела в 1982 году в Мехико “Всемирную конференцию по политике в области культуры”. Конференция четко включила развитие гуманитарных наук и культуры в процесс глобальной экономической, политической и социальной интеграции и рассматривала содействие культурному развитию как обязательство, которое правительства всех стран должны взять на себя перед лицом нового столетия. 15 лет спустя, в 1997 году, ЮНЕСКО еще раз опубликовала доклад “10 лет всемирного культурного развития Организации Объединенных Наций (1988-1997)”, в котором четко предложена необходимость улучшать гуманитарную и культурную заботу о глобальном человеческом сообществе и способствовать дальнейшей интеграции экономики, политики и культуры. В марте 1998 года Комитет Организации Объединенных Наций по культуре и развитию провел в Стокгольме межправительственное совещание на тему “Политика в области культуры для развития” (Cultural Police for Development) и одновременно опубликовал “Доклад о мировом культурном развитии”, издаваемый раз в два года. В Плане действий (Action plan) Стокгольмской конференции содержался настоятельный призыв к странам всего мира разработать и внедрить политику в области культуры или обновить существующую политику в области культуры как важную часть непрерывного развития.
В этом контексте, начиная с 90-х годов 20-го века, развитые страны впервые способствовали наступлению кульминационного момента в создании официальной политики в области культуры. Этот кульминационный момент наступил в Великобритании. В 1990 году Совет по искусствам Великобритании принял правительственное поручение по работе над разработкой проекта стратегии культурного развития Великобритании совместно с Обществом кинематографистов и Советом по ремеслам. После двух лет исследований, рассмотрений и обоснований в 1992 году был подготовлен дискуссионный проект “Стратегии развития национальной культуры и искусства”. В 1993 году он был официально опубликован под названием “Будущее созидания”. “Впервые в истории Великобритании национальная политика в области культуры была обнародована в форме официального документа”.17 Слово “созидание” (creativity) здесь является синонимом “экономики знаний” или “производства в области культуры”. После Великобритании практика разработки политики в области культуры на тему “созидания” развивалась по двум направлениям.
Прежде всего, “созидание” стало основной темой для развитых стран Британского Содружества при определении их собственной политики в области культуры. В 1994 году Австралия также “впервые в истории” запустила собственную политику в области культуры, которая называлась “Созидающая страна: политика в области культуры Австралийского Союза”. В том же году правительства Канады и нескольких ее провинций также выпустили свои собственные документы о политике в области культуры, посвященные теме “созидания”.
Кроме того, широкое развитие темы “созидания” в других странах, не входящих в Британское Содружество, получило в 1998 году. В этом году Руководящий комитет Совета Европы по культуре (The Steering Committee for Culture of Council of Europe) определил построение “Созидающей Европы” (Creative Europe) в качестве своей собственной стратегической цели. С этой целью он запустил рамочную модель политики в области культуры ЕС при академической поддержке Европейского института сравнительных исследований культуры (ERICarts). Вышеуказанная рамочная структура включает в себя восемь частей и в каждой части имеется определенное количество подтем по каждой теме. Эти восемь частей включают: (1) исторический обзор: политика в области культуры и методы; (2) законодательство, механизмы разработки стратегий и административные механизмы; (3) общие цели и принципы разработки политики в области культуры; (4) обсуждение вопросов, связанных с разработкой политики в области культуры; (5) Основные правовые положения в области культуры; (6) финансирование культуры; (7) система культуры и новые отношения сотрудничества; (8) поддержка созидания и участия. К началу нового столетия в Европе насчитывалось около 30 стран, которые приняли эту рамочную модель политики в области культуры, включая не только развитые страны, такие как Великобритания, Франция и Германия, но и Россию, три государства Балтии, Венгрию и страны восточноевропейского блока и бывшего Советского Союза.
Стоит отметить, что, вероятно, есть только одна развитая страна, которая остается в стороне от тенденции создания вышеупомянутой официальной политики в области культуры, и это США. США нет равных с точки зрения производства в области культуры и влияния, и даже с точки зрения разработки политики в области культуры они уникальны – у них до сих пор нет официального документа о политике в области культуры!18 Это отражает их уникальные национальные особенности. Фактически, общепризнано, что США были первой страной, принявшей законодательство в области культуры. Первая поправка к Конституции США, принятая в 1791 году, гласила: “Конгресс не должен принимать законы, лишающие людей свободы слова и печати”. Очевидно, что это принцип, который максимально ограничивает власть правительства и максимально открывает пространство культурной жизни. Это заставляет исполнительные и законодательные органы быть очень осторожными во вмешательстве в политику в области культуры. Американские ученые считают, что политика федеральных ведомств в области культуры, выраженная словами “всегда, уже” (always, already) – это и есть “невмешательство и отсутствие регулирования” (non-activity, non-regulation).
Эта традиция резко отличается от европейских стран. Во Франции, Германии и других странах всегда существует традиция государственной поддержки культурного развития. Однако некоторые ученые в США подчеркивают, что в этой традиции слишком большое внимание уделяется “авангардным (avant-garde) или элитарным” характеристикам культуры, что не способствует ее естественному формированию в обществе и росту на рынке.19
Вышеупомянутая политика в области культуры преимущественно уделяла большое внимание тенденции экономизации культуры, возникшей во второй половине прошлого века, и, соответственно, вводила приоритетные политические меры, направленные на развитие “индустрии культуры” в стране. В то же время, после 90-х годов прошлого века развитые страны последовательно внедряли некоторые виды политики в области культуры, которые не являются строго культурными, но тесно связаны с культурой. Эти виды политики уделяли внимание другой тенденции, так называемой культуризации экономики. В этом отношении показательными являются два ежегодных доклада “Экономика, основанная на знаниях” и “Нацио нальная инновационная система”, выпущенные ОЭСР в 1996 и 1997 годах. В первом докладе говорилось, что на тот момент объем производства продукции в 24 государствах – членах организации в высокотехнологичных, наукоемких отраслях превысил 50% валового национального продукта, что свидетельствовало о вступлении развитых стран в эру экономики знаний.20 Характеристики “культуризации экономики” в эту эпоху проявляются в том факте, что процесс исследований и разработок, упаковка продуктов, бренд и разработка рекламы, маркетинг, направленный на людей, услуги и т. д. в экономической сфере широко используются в “созидательном” контенте, связанном с культурой в узком смысле. Экономика, ориентированная на “материальные объекты”, демонстрирует сильную ориентацию прежде всего на “человека”.
Исследовательская группа получила несколько впечатлений от многолетних исследований западной политики в области культуры или политики, связанной с культурой:
Во-первых, с современной научно – технической революцией культурная самобытность или деятельность по производству в области культуры и распространению культурных ценностей, которые изначально были далеки от рынка, полностью вошли в рыночную сферу. Экономика знаний / экономика культуры, культуризация экономики / экономизация культуры стали важными темами политики в области культуры развитых стран с 90-х годов прошлого века. В этом контексте один за другим появляются такие политические термины, как “индустрия культуры”, “индустрия контента” или “индустрия созидания”. Соответствующие политические документы были представлены в Китае в большом количестве после 90-х годов прошлого века, и они оказали глубокое влияние на авторитетную политику в области культуры страны. Это была основная политическая подоплека 16-го съезда Коммунистической партии Китая, на котором было принято решение об “интеграции культуры и экономики”.
Во-вторых, хотя новая волна глобализации характеризуется теми же чертами, политика различных стран отличается либо очень сильно разнится в выборе моделей культурного развития. Чисто коммерческая модель радио и телевидения в США резко контрастирует с британской моделью Би-Би-Си. Ориентация французской политики, основанной на покровительстве, сильно отличается от ориентации на “горизонтальную децентрализацию” и “вертикальную децентрализацию”, на которых настаивали Финляндия, Германия и другие страны в конце прошлого века. В целом, современная мировая система, о которой упоминал Валлерстайн, все еще существует в сфере глобальной культуры. Конкуренция за “центр и периферию” и противоречие между “империализмом и зависимостью”, описанные Дус Сантусом,21 составляют основные условия и содержание существования этой системы. Что еще сложнее, так это то, что в “центре” этой мировой системы культуры22 также существует “периферия центра”. В частности, всесторонне ориентированные на рынок США являются “центром в центре” с точки зрения культурного развития, в то время как Европа, Канада, Австралия, Япония и Южная Корея образуют так называемую “вторую группу” после окончания холодной войны, а главным культурным оппонентом этой группы часто являются не развивающиеся страны, а США.23 Это наблюдение вдохновило китайских деятелей политики в области культуры на мысль о том, что необходимо не только соответствовать тенденциям развития глобализации, но и сохранять независимость в реальном мире, полном игр, то есть независимость в выборе модели и шагах по развитию. Это критически важно для периферийных развивающихся стран в современной мировой системе.

