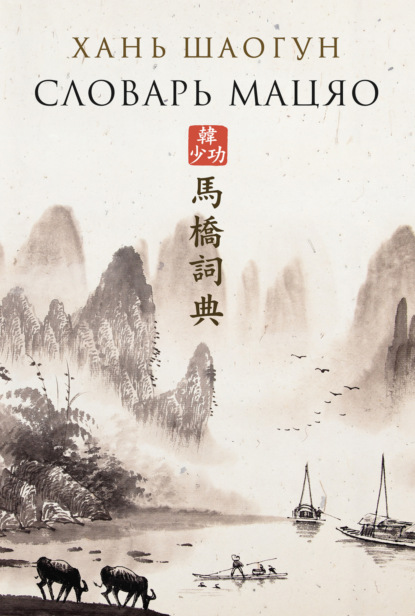
Полная версия:
Словарь Мацяо
Как-то раз мне случилось побывать в Обители бессмертных – начальство выдало мне краску желтого и алого цветов и поручило украсить деревню лозунгами с высказываниями председателя Мао – разумеется, этот угол тоже нельзя было оставить без лозунга. К тому времени я уже знал, что в Обители живет один Ма Мин, все остальные пустоброды или умерли, или разбрелись кто куда. Ма Мина дома не оказалось, я потоптался у ворот, покашлял, но никто не ответил, тогда я робко поднялся по осыпающимся каменным ступеням, нырнул в эту пыльную мрачную пещеру и очутился в кромешной тьме, ощущая ужас тонущего, над головой которого сошлась вода. Я боком пробрался в правое крыло – в углу черепичной крыши там зияла брешь, и мои глаза наконец смогли уцепиться за лившийся из нее свет. Я осмотрелся по сторонам: в одной из стен имелась ниша неясного назначения, формой напоминавшая брюшко Будды Майтрейи. Дощатые стены были источены червями, на полу валялась солома, скрипели осколки черепицы. У стены стоял большой гроб, тоже присыпанный соломой и укрытый сверху куском клеенки. Рядом я увидел постель хозяина дома – ей оказалась драная циновка, брошенная на солому в углу стены, в ногах циновки лежала охапка угольно-черной ваты, перехваченная соломенным жгутом, что демонстрировало изобретательность хозяина Обители по части защиты от холода. Рядом с постелью стояла пара старых аккумуляторов, бутылка из-под вина, валялись разноцветные сигаретные пачки – мелкие трофеи, раздобытые здешними обитателями во внешнем мире.
Кончиком носа я уперся в скопление кислой вони, отошел чуть в сторону, там ничем не пахло. Сделал шаг назад, и вонь появилась снова. Мне показалось, что вонь в этой обители была уже не разлита в воздухе – накапливаясь день за днем, она затвердела, приняла осязаемую форму и даже налилась тяжестью. Наверняка здешний хозяин ходит по дому на цыпочках, чтобы ее не потревожить.
И я тоже осторожно отодвинулся от глыбы затвердевшей вони, отыскал место, где дышалось свободнее, и намалевал на стене изречение председателя Мао: «В страдное время ешьте вареный рис, в дни отдыха пейте рисовый отвар, в обычное время питайтесь тем и другим по очереди», надеясь, что здешний обитатель воспримет его как руководство к действию.
И услышал, как за моей спиной кто-то вздохнул:
– Если вносишь смуту во время, жди смутных времен.
Позади меня стоял человек – я не слышал его шагов и не знал, когда он появился. От худобы виски его глубоко запали, одет он был в ватную куртку и ватную шапку не по сезону, руки прятал в рукавах и смотрел на меня с улыбкой – очевидно, это и был хозяин Обители бессмертных. Козырек его шапки лихо загибался назад, как и у всех остальных жителей Мацяо.
На мой вопрос вошедший с кивком ответил, что он и есть Ма Мин.
Я спросил, что значат его слова.
Он еще раз улыбнулся и заговорил: до чего же глупая затея – ваши новые начертания[21]! Из шести категорий иероглифов чаще других встречаются знаки, в которых содержится указание как на звучание, так и на смысл[22]. Раньше в иероглифе 時 ши «время» за передачу смысла отвечал левый элемент 日 жи «солнце», а за чтение – правый элемент 寺 сы «храм», и все было яснее ясного – куда еще упрощать? Теперь справа стоит элемент 寸 цунь «вершок», который чтению никак не соответствует, глаза бы на него не смотрели, все законы иероглифики попраны – что это, как не смутьянство? Если вносишь смуту во время, жди смутных времен.
Таких ученых рассуждений я услышать никак не ожидал, ко всему прочему, они лежали за пределами моих познаний. Чтобы сменить тему, я спросил, куда ходил мой новый знакомый.
Ма Мин сказал, что удил рыбу.
– И где же улов? – я видел, что он пришел с пустыми руками.
– Ты тоже рыбачишь? Значит, должен понимать, что помыслы рыбака устремлены не к рыбе, а к дао. Большая рыба ловится или только мелочь, много рыбы ловится или мало – настоящий рыбак не тревожится об улове, а радуется рыбалке и следует дао. Лишь дикари и безумцы ослепляют свое сердце жаждой наживы, сыплют в воду отраву, глушат рыбу динамитом, ставят сети, орудуют палками – скверные нравы, до чего же скверные нравы! – Ма Мин покраснел от возбуждения и даже закашлялся.
– Ты уже пообедал? – спросил я из вежливости.
Он покачал головой, прикрыв рот ладонью.
Я испугался, что теперь Ма Мин станет клянчить у меня продукты, и вставил, не дожидаясь, когда он откашляется:
– Все-таки с уловом лучше, чем без улова. Можно рыбы на обед сварить.
– Что же хорошего в рыбе? – фыркнул в ответ Ма Мин. – Грязные твари, падальщики!
– Ну… или мяса.
– Что ты! Свиньи – глупейшие на свете твари, есть свинину – вредить своему уму. Коровы медлительны и неуклюжи, говядина притупляет природные дарования. Овцы и бараны трусливы, баранина лишает человека храбрости. От такой еды лучше держаться подальше.
Подобных рассуждений мне слышать еще не приходилось.
Заметив мою растерянность, Ма Мин усмехнулся.
– Неужели во всей Поднебесной не сыщется человеку съестного? Полюбуйся, как прекрасны бабочки, как чисто поют цикады, как легки богомолы – перелетают даже через самую высокую стену, посмотри, как ловко раздваиваются пиявки! В насекомых содержится семя Неба и эссенция Земли, одухотворенная ци, разлитая по миру с самой древности, насекомые – вот истинная пища богов. Пища богов… – он смачно щелкнул языком, почмокал губами и, вдруг вспомнив о чем-то, шагнул к своей постели, взял с пола глиняную чашу и протянул ее мне. – Попробуй, это золотой дракон, вымоченный в соевом соусе. Тут у меня совсем немного, но ты попробуй – вкус у него превосходный.
Я заглянул в чашу – золотым драконом оказался дождевой червяк, при виде которого меня едва не вывернуло наизнанку.
– Попробуй, только попробуй, – Ма Мин гостеприимно улыбался, поблескивая золотым зубом. В лицо мне била кислая коричневая вонь.
Я рванул оттуда на улицу.
Потом я долго его не видел, у нас почти не было случая встретиться. Ма Мин никогда не выходил на работу: небожители из Обители бессмертных несколько десятилетий назад решили отринуть коромысла, мотыги и прочую мирскую скверну и до сих пор ни разу не изменили своему решению. В деревне рассказывали, что даже самое высокое начальство ничего не могло с ними поделать, небожителей увещевали, бранили, вязали веревками, но все было напрасно. Если какой начальник грозился отправить их за решетку, небожители отвечали, что только о том и мечтают: в каталажке им даже готовить себе не придется. На самом деле они и так почти не готовили, а мечты о каталажке были всего лишь попыткой довести свою лень до чистейшего абсолюта.
Они никогда не садились вместе за стол и не следовали общему распорядку: кто проголодался, выходил из Обители, а потом возвращался, вытирая губы, – значит, угостился дикими ягодами, закусил червяками, а может, сорвал на чужом огороде редьку или кукурузу и съел сырой. Если кто из небожителей разводил огонь, чтобы приготовить себе обед, трое остальных поднимали его на смех за привязанность к мирским привычкам – по их мнению, разведение огня отнимало слишком много сил. Они ничем не владели – само собой, и в Обители бессмертных они жили на птичьих правах. Но не было на свете того, чем бы они не владели, как говаривал Ма Мин: «Горы и реки никому не подвластны, лишь праздный над ними хозяин». Целыми днями они предавались безделью, играли в сянци[23], напевали арии из местных опер, созерцали картины природы, поднимались на горные вершины и озирали мир с высоты, вбирали в сердце горы и воды, соединяли в чреве древность и современность, и в облике каждого из пустобродов сквозило достоинство отшельника, что отрекся от суетного мира ради бессмертия и одинокого восхождения к миру горнему. Первое время деревенские не могли без смеха смотреть, как небожители «восходят к вершинам». В ответ пустоброды сами потешались над деревенскими, дескать, они целыми днями суетятся, едят, чтобы работать, работают, чтобы поесть, отец трудится ради сына, сын – ради внука, до самой старости гнут спины в поле, точно скотина, как их не пожалеть? Скопи ты хоть гору монет – человеку нужно всего пять чи[24] ткани, чтобы одеться, и чашка риса, чтобы насытиться, так что никакому мирскому богатству не сравниться с тем, чем владеют они, которые дружат с солнцем и луной, кому земля и небо – родной дом, чьи часы и минуты наполнены созерцанием красоты, кто встречает каждый день как праздник – вот настоящие богачи и аристократы!
Потом люди насмотрелись на пустобродов, как они слоняются по округе среди бела дня, и перестали обращать на них внимание. Даос Инь, один из четырех небожителей, иногда уходил проводить ритуалы в дальние деревни. Ху Второй просил милостыню в уездном центре – бывало, по несколько месяцев не возвращался в Мацяо. Однажды из уездной управы спустили распоряжение: являясь в город просить милостыню, мацяосцы порочат репутацию уездного центра, деревенское начальство должно принять строгие меры. Если эти попрошайки в самом деле оказались в бедственном положении, необходимо оказать им материальную помощь, мы социализм строим, а у вас люди от голода помирают. Пришлось дядюшке Ло, который в ту пору был старостой, отправить деревенского счетовода Ма Фуча в амбар, чтобы он насыпал там корзину зерна и отнес в Обитель бессмертных.
Но Ма Мина было не взять голыми руками, он уставился на Фуча и заявил:
– Даже не думай! Где это видано, чтобы в подарок приносили пот и кровь трудового народа?
В его словах был свой резон, и Фуча пришлось отнести корзину обратно в амбар.
Ма Мин не принимал подачек и даже не пил воду из общего колодца. Колодец строили без него, он не носил глины, не дробил камня, потому и пользоваться им отказывался. Питьевую воду Ма Мин брал в ручье за две или три ли от деревни, под тяжестью кадки с водой все косточки в его щуплом теле перекручивались, на лбу вздувались жилы от натуги, дыхание сбивалось, Ма Мин, корчился, охал, стонал и через каждые два шага останавливался передохнуть. Деревенские жалели его, говорили: колодец общий, возьмешь ты себе немного воды, от нас не убудет. Но Ма Мин отвечал, стиснув зубы:
– По трудам и воздается.
Или разводил свою тухлую философию:
– В ручье вода слаще.
Однажды кто-то поднес ему чашку имбирного чая с кунжутом и солью и почти силой заставил выпить. Осушив чашку, Ма Мин и десяти шагов не прошел, как вдруг застонал и скорчился от рвоты – на губах повисла длинная слюна, глаза закатились. После он сказал, что весьма благодарен за такое угощение, но его нутро не принимает мирскую пищу – вода в деревенском колодце пропахла куриным пометом, и как вы ее только пьете? Разумеется, нельзя сказать, чтобы Ма Мин совсем не пользовался людской милостью, например, ватная куртка, которую он носил и зимой, и летом, досталась ему в качестве матпомощи от деревни. Правда, сначала Ма Мин упирался и ни в какую не хотел ее принимать, но находчивый староста объяснил, что на самом деле это никакая не матпомощь, а просьба от всей деревни, чтобы Ма Мин сделал им одолжение и перестал ходить по окрестностям в рванье, позорить Мацяо перед людьми. И Ма Мин неохотно принял куртку – чего только не сделаешь, чтобы помочь людям. Но вспоминал тот случай всегда с досадой, будто остался в большом накладе: дескать, согласился только из уважения к почтенному возрасту старосты, иначе ни за что бы эту куртку не надел – до самых костей жарит, в такой одежде и здоровый занеможет.
Он и правда не боялся холода, часто ночевал под открытым небом – утомившись на прогулке, Ма Мин зевал и сворачивался у дороги калачиком, иногда устраивался под чьей-нибудь стрехой, иногда – у колодца, но никто не помнит такого, чтобы Ма Мин простудился, лежа на голой земле. Сам он объяснял, что сон на улице самый полезный: тело насыщается сразу и земной, и небесной ци, в полночь его питает начало ян, что рождается на пределе инь, а в полдень – начало инь, что рождается на пределе ян. Еще Ма Мин говорил, что всякая жизнь есть сон, стало быть, важнее сна в жизни и придумать ничего нельзя. Если спать возле муравейника, во сне будешь государем, если спать на цветочном лугу, во сне узнаешь любовное томление, если спать рядом с песчаными дюнами, во сне увидишь золото, если спать на кладбище, во сне увидишь духов и бесов. Ма Мин мог обойтись без чего угодно, но сон был его святыней. Он плевал на все запреты и правила, но место для сна выбирал с невероятным тщанием. Больше всего он жалел мирян за их пустые сны – спят только ради того, чтобы проснуться. Но если хочешь проснуться, первым делом нужно как следует уснуть. Люди, которые не умеют видеть сны, половину жизни у себя отнимают – только небо коптят.
Все его рассуждения деревенские считали чепухой и бессмыслицей. Потому и неприязнь Ма Мина к мирянам росла день ото дня – появившись в деревне, на людей он смотрел волком и все больше помалкивал.
Если говорить по сути дела, Ма Мин был человеком, который оставался свободен и от людей, и от закона с моралью, и от влияния политических процессов. Земельная реформа, борьба с разбойничьими шайками, кампания против помещиков и угнетателей, бригады трудовой взаимопомощи, кооперативы, народные коммуны, «четыре чистки», «культурная революция»[25] – все эти кампании прошли мимо него, история Поднебесной не имела и малейшего влияния на жизнь Ма Мина, он наблюдал за ней издалека, как наблюдают за уличным балаганом. В «столовские годы» кто-то из приезжего начальства, не дав себе труда разобраться в местных порядках, связал Ма Мина веревкой и потащил в поле на перевоспитание, но как он ни колотил пустоброда палкой, как ни стегал его кнутом, Ма Мин валялся в грязи с закатившимися глазами, готовый скорее умереть, чем встать на ноги и взяться за работу. И раз уж его вытащили из Обители бессмертных, обратно он уходить ни за что не хотел: без умолку твердил, что умрет на глазах у этого начальника, и куда бы тот ни направлялся, Ма Мин полз за ним следом, так что деревенским пришлось взять его за руки за ноги и отнести обратно в Обитель. Ма Мин не желал быть частью общества, и в этом нежелании оказался сильнее любого начальства. С легкостью отразив последнюю попытку общества вмешаться в его жизнь, он превратился в совершенное отсутствие, в пустоту, в зыбкую тень – и во всех дальнейших переписях, которые я помогал проводить деревенскому начальству (вторичная проверка социального происхождения, перепись для распределения пайка, перепись по планированию рождаемости, всекитайская перепись населения), никто даже не вспоминал, что в деревне живет еще и Ма Мин, ни у кого не появлялось мысли, что он тоже должен быть учтен.
Его нет во всекитайской статистике населения.
Его нет во всемирной статистике населения.
Очевидно, его уже нельзя считать человеком.
Но если он не человек, то кто? Общество – производное от человека, Ма Мин отказался от общества, и в ответ общество отняло у него право называться человеком – как я полагаю, именно этого он и добивался, Ма Мин всегда мечтал перейти из разряда людей в разряд настоящих небожителей.
Я был несколько удивлен, узнав, что и в других деревнях обитает немало таких существ, добровольно изъявших себя из круга людей. Мацяоских пустобродов было четверо – как Небесных Царей[26], и мне рассказывали, что почти в каждой деревне уезда до сих пор найдется несколько небожителей, только чужаки о них обычно не знают. Если встретишь его на улице, может, и удастся порасспрашивать деревенских, но сами они о пустобродах почти не вспоминают. Словно те живут в другом, схлопнувшемся и невидимом мире внутри обычного мира.
Фуча говорил, что родители у небожителей обычно совсем не бедные, и сами они – люди не тверёзые (см. статью «Тверёзый»), даже наоборот, окаянски умные (см. статью «Окаянный»). Детьми они почти не отличаются от своих сверстников, разве что любят озорничать и не желают сидеть за книгами – можно считать это первыми проявлениями пустобродной натуры. Взять, к примеру, Ма Мина – все слова учителя он пропускал мимо ушей, зато парные свитки писал такие, что залюбуешься: «Мысли трепещут, как звезды на новом флаге, не дает нам сдвинуться с места танец янгэ»[27]. Слова, конечно, реакционные, но сказано хорошо, каждый иероглиф на своем месте. И даже на митинге борьбы, устроенном из-за этого парного свитка, все единодушно признали, что литературным талантом малец не обделен. Оставшись без родителей, такой парень быстро портится и все начинает делать по науке (см. статью «Наука»), точно его околдовали.
▲ Нау́ка
▲ 科学
Мацяосцы рубят хворост на хребте, относят его на коромысле в деревню, раскладывают сушиться, а потом пускают на растопку. Влажное дерево тяжелее сухого, и на пути с хребта коромысло больно впивается в плечи. Однажды мы придумали, что можно сушить хворост прямо на горе, а вниз спускать после следующей рубки. Теперь мы носили в деревню корзины с сухим хворостом, срубленным в прошлый раз, и были они заметно легче. Узнав про наше нововведение, дядюшка Ло примерил мое коромысло и даже глаза вытаращил: до чего легкое!
Я ему говорю: это потому, что вода из дерева выпарилась.
Он вернул мне коромысло, взвалил на плечи свой сырой хворост и зашагал дальше. Мне это показалось странным, я догнал дядюшку Ло и спросил, почему он не хочет опробовать наш способ.
– Я одного не пойму: если человек даже дрова ленится до дома донести, на кой черт он вообще живет?
– Дело не в лени, мы просто решили призвать на помощь науку.
– Какую такую науку? Науку халтурить? Что машины ваши городские, что поезда, что самолеты – сплошь выдумки халтурщиков! Нормальному человеку такие фокусы и в голову не пришли бы!
Я даже не знал, что на это ответить.
– Носитесь с этой наукой… – досадовал дядюшка Ло. – Скоро вместо нормальных людей останутся одни Ма Мины.
Он имел в виду хозяина Обители бессмертных. Ма Мин никогда не выходил на общие работы и даже сам для себя палец о палец ленился ударить: нарвет где-нибудь овощей и ест сырыми, огонь никогда не разводит. Приучился есть все сырым, потом даже рис перестал варить: закинет в рот целую горсть и хрустит зубами, все губы – в рисовой шелухе. Люди над ним потешаются, а он в ответ целую философию разводит: дескать, варка убивает полезные свойства продукта, тигры и леопарды в горах себе огонь не разводят, а силой превосходят человека и болеют меньше, так почему бы нам у них не поучиться? И отхожее ведро Ма Мин за собой никогда не выносил, вместо этого прорыл под стеной нору, уложил в нее бамбуковый желоб и мочился прямо туда. Тоже говорил, что призвал на помощь науку, что из-за особенностей рельефа испражнения сами утекают куда следует, а накапливать их в доме вредно.
С наступлением зимы Ма Мин прекращал умываться. Лицо его покрывалось грязной коркой, которую он скатывал руками, а иногда корка отваливалась сама целыми кусками, если правильно ее поскрести. Ма Мин не признавался, что боится холодной воды, вместо этого говорил, что наука доказала опасность частых умываний – если смыть с лица все сало, кожа вам спасибо не скажет.
Или вот: Ма Мин тратил битый час, чтобы принести в Обитель пару ведер воды с ручья, а в гору поднимался только зигзагами: три шага направо, потом три шага налево, уже полдня прошло, а Ма Мин даже половины пути не одолел. Люди удивлялись, наблюдая за его восхождением, говорили: ты бы поставил коромысло на землю и выделывал свои фортеля! Ма Мин отвечал: много вы понимаете! Так сберегаются силы. Чжан Тянью и железную дорогу через Бадалин[28] прокладывал зигзагами! Но ни один человек в Мацяо не знал, кто такой Чжан Тянью.
– Конечно, откуда вам знать! – надменно изрекал Ма Мин, явно давая понять, что не намерен распинаться перед деревенским сбродом, и продолжал свое необычное восхождение, стараясь не расплескать по пути к Обители ни капли драгоценной силы.
Деревенские шутили, что пустоброды – настоящие ревнители науки, а их Обитель давно пора переименовать в НИИ. Очень может быть, что первое представление о значении слова «наука» мацяосцы получили именно от Ма Мина, и это слово в их понимании не значило ничего хорошего. На моей памяти деревенские даже не заглядывали в брошюры из серии «Научные методы земледелия», которые выдавало им начальство, а сразу пускали их на самокрутки, и радиотрансляции о научных методах в откорме свиней тоже оставляли без внимания, а потом и вовсе порезали кабель на куски, растащили его по домам и приладили на отхожие ведра вместо обручей.
Иными словами, их насмешки над небожителями по принципу круговой поруки распространились и на науку. Однажды несколько мацяосцев отправились в Чанлэ за известью и по пути очень заинтересовались автобусом, стоявшим на ремонте у обочины. Мацяосцы окружили автобус и, сами не зная зачем, забарабанили коромыслами по кузову – на гладкой обшивке тут же появились две вмятины. Водитель, громко чертыхаясь, вылез из-под автобуса и понесся на деревенских с гаечным ключом, но даже это не остановило их странный порыв: отбежав подальше, мацяосцы принялись орать благим матом и швырять в автобус камнями.
Деревенские впервые видели этого водителя, ничего дурного он им не сделал. И привычки портить чужие вещи за ними не водилось: ни одному мацяосцу не пришло бы в голову стучать коромыслом по стене или двери соседского дома. Почему же они не смогли сдержать себя при виде автобуса? У меня есть только одно объяснение: за веселыми шутками скрывается глубокая неприязнь, в которой мацяосцы даже не отдают себе отчета, – неприязнь ко всем новомодным штуковинам, ко всем достижениям науки, ко всем механическим чудищам, что приходят в деревню из города.
А в городских мацяосцы видят всего-навсего толпу халтурщиков, сборище ревнителей науки, о которых столь неодобрительно отзывался дядюшка Ло.
Конечно, будет слишком надуманно и несправедливо возлагать вину за происшествие с автобусом на Ма Мина. Однако все незнакомые слова мы воспринимаем не только рассудком, но и ощущениями, и потому ни одно слово невозможно рассматривать в отрыве от конкретных образов, обстоятельств и событий, с которыми оно связано. И нередко эти факторы в значительной степени определяют вектор нашего понимания. «Образцовая пьеса»[29] – кошмарное словосочетание, но если звуки образцовой пьесы воскрешают в памяти первую любовь или молодые годы, эти слова вызовут в душе человека целую бурю патетических чувств. Выражения вроде «критика», «политическая позиция», «дознание» сами по себе ничем не плохи, но жертв «культурной революции» от них невольно пробирает дрожь. Возможно, сформировавшиеся вокруг этих слов стереотипы еще долго будут иметь власть и над душевным состоянием, и над жизненным выбором отдельных людей или целых народов, но их буквальное значение здесь ни при чем.
Тогда и слово «наука» не виновато в той оголтелой клевете, которую возводят на научный мир дядюшка Ло и иже с ним, и точно так же не виновато оно в дорожном происшествии, когда толпа мацяосцев, вооруженных коромыслами, в едином порыве ополчилась на плоды научно-технического прогресса.
Но кто же тогда виноват? Кто внушил мацяосцам, что наука – страшное зло, от которого лучше держаться подальше?
Могу лишь сказать, что виноват в этом не один Ма Мин.
△ Тверёзый
△ 醒
В большинстве толковых словарей китайского языка нет указаний на негативную окраску иероглифа син «трезвый». Например, «Толковый словарь», выпущенный «Коммерческим издательством» в 1989 году, объясняет этот иероглиф следующим образом: «Трезвый (тверёзый) – избавившийся от опьянения, очнувшийся от забытья, мыслящий ясно», то есть трезвость противопоставляется опьянению и помутненному состоянию сознания, а прилагательное «трезвый» может служить синонимом слова «разумный», «здравомыслящий» или «умный».
А знаменитая строка из поэмы Цюй Юаня «Отец-рыбак» и вовсе придает иероглифу «трезвый» блистательный ореол: «Весь мир, все люди грязны, а чистый один лишь я. Все люди везде пьяны, а трезвый один лишь я»[30].
Однако мацяосцы не согласятся с таким толкованием. Здесь принято произносить слово «тверёзый», презрительно скривившись, и используется оно для характеристики самых неразумных поступков. А «тверёзниками» в Мацяо называют круглых дураков. Быть может, так повелось с той поры, когда предки мацяосцев встретили у реки Ло великого Цюй Юаня?
В 278 году до нашей эры трезвый (или считавший себя трезвым) Цюй Юань, не в силах терпеть выходок опьяневшего мира, решил принести себя в жертву, ответить смертью на царившую вокруг несправедливость и бросился в реку Мило – так называлось нижнее течение реки Ло (нынешняя волость Чудасян). Цюй Юаня привела сюда дорога изгнания. В царстве Чу, которому он служил верой и правдой, «сановники плели интриги, в милости у государя были одни льстецы, а честные мужи попадали в опалу, и в сердцах народа царила смута» (см. 33 цзюань трактата «Планы сражающихся царств»[31]), Цюй Юаню там не было места. Он вспоминал столицу Ину, оплакивал свои надежды, изливал печали в стихах и взывал к Небу. Он был не в силах спасти этот мир, зато обладал свободой его отринуть. Он был не в силах вынести предательства и лицемерия, зато обладал свободой закрыть глаза. И в конечном итоге выбрал мрак и тишину речного дна – там закончились его мучения.

