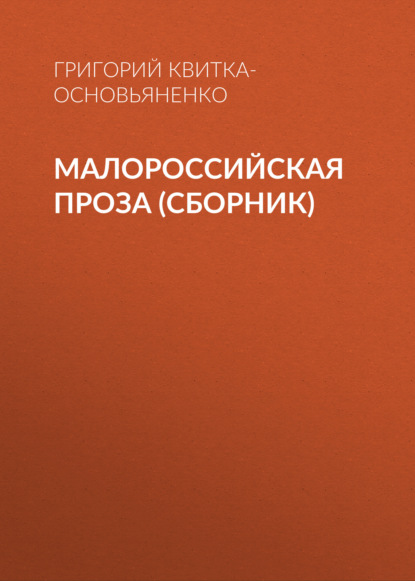 Полная версия
Полная версияМалороссийская проза (сборник)
– Врешь, бездельник! – закричал за ним… кто же? Чиновник от самого губернатора!.. – Возьмите его под караул!
Потащили его самого в ту яму, которую рыл для другого!
Чиновник тотчас начал расспрашивать про Левка… И все в один голос сказали, что нет за ним никакого качества и что они и писарю тогда так говорили, но как он написал, они не знают… Да к чему долго рассказывать! Чиновник вывел в этом деле все концы, как писарь плутовал здесь и в судах с секретарями. Дошло и до того, как обдирал он волость из-за головы. Не сошло и голове, что не знал ничего, а писарь управлял им, а он только кричал:
– Я вам не Евдоким, прежний голова! – но писарь что хотел, то и делал из него.
Управившись скоро, чиновник сказал Левку и Ивге:
– Начинайте теперь свою свадьбу, а я поеду в город, примусь за судей…
И поехал.
Мигом началась свадьба. Подружки запели, скрипки заиграли, пошли чарки между добрыми людьми – пьют да чарки на лоб перекидывают и удивляются, как Ивга в губернии между панами и даже перед самим губернатором хлопотала и старалась об Левке и как избавила его от беды. Старый Макуха, сидя между стариками, все рассказывал, а те только почмокивают и в один голос приговаривают:
– Справедливо назвал губернатор: вот «козырь-девка», так-так! Назавтра же весь почет, с отличными подарками и знаками, обвенчали наших молодых и такую свадьбу отпраздновали, что ну! Три дня так знатно пили, что никто и не помнит. Наряжалися журавлями, медведями, жидовками; были и цыганки, и турки, и разными народами наряжались, все от радости, что «козырь-девка» поставила на своем. А что молодых обдарили, так ну! Дружко даже охрип, крича, по обязанности своей, всеми голосами тех животных, каких кто дарил молодым…
Не прошло же секретарям, что брали с писаря деньги, и Левково дело, как хотели, вертели. Досталось и исправнику, и всем судящим, что все ссылались на секретарей, дела не хотели знать, а подписывали то, что им подносили. Отозвались и бублики судье, что только глотку ими запихал, а кто бедствовал, так он того и знать не хотел. Все это наделала Ивга, уже всеми названная «козырь-девка», что избавила всех добрых людей от дурной масти…
Писарь, сидя в «холодной», слушал, как добрые люди гуляли на свадьбе у Левка, и от досады рвал волосы на себе, что не ему досталась «козырь-девка». А потом пошел в ту дорогу, куда располагал отправить Левка, прямо в самую Сибирь. Голову сменили, чтоб не умничал: «Вот я-то! Я вам не Евдоким» – и что не мог ничем распорядить и видеть, что писарь делал всем зло.
Наши же молодые начали жить припевая. Ивга и тут с расчетом сделала: те деньги, что ей подарили в городе, она не дала все издержать на свадьбу; когда же отгуляли, она принялась с Левком за хозяйство. Как все было разорено, то они обзавелись всем, принимали опять проезжающих, и пошло у них все порядком. И старому Макухе очень хорошо было: его покоили, уважали по-старосветски и всегда, чего только желал, все доставляли ему. А Ивга? Она уже и замужем, она и молодица, и деток имеет, а от всех всегда слывет: «козырь-девка!».
Украинские дипломаты
Петру Васильевичу Зворыкиину[280]
Сколько могу припомнить, 21 число июня месяца не ознаменовано никаким событием ни в древней, ни в новой, ни во всеобщей, ни в русской историях, в пол-листа и в осьмушку печатанных. Тысяча восемьсот тридцать второму году предназначено было поставить сей день в число достопамятных. В течение сего навсегда заметного дня, в 20-й минуте двенадцатого часа до полудня, при ясном, безоблачном небе, при +20°Р., дворовые гуси Никифора Омельяновича Тпрунькевича, не быв никем водимы, наставляемы, научаемы, подгоняемы и побуждаемы, сами собою, добровольно и самоуправно, всего счетом 13 гусей серых и белых, обоих полов и различного возраста, перешли с полей владельца своего и взошли на землю, принадлежащую Кириллу Петровичу Шпаку, засеянную собственным его овсом. Если бы только взошли, походили, погуляли и возвратились на земли господина своего, то оно бы ничего: никто бы не узнал, не произошло бы ничего важного, и день сей, подобно, как и некоторые другие, остался бы надолго незамеченным во всех историях. Но судьба хотела иначе.
Известно, что гуси – тварь глупая, не понимающая вовсе ничего, а потому не знающая и о неприкосновенности к чужому достоянию; о страстях же человеческих гуси ни от кого не слыхали и понятия не имеют. И потому сии тринадцать гусей, взойдя на земли Кирилла Петровича Шпака и увидя на ниве зеленеющую траву еще растущего овса, принялись самоуправно выщипывать ее, не по выбору, а сплошь. На беду сих гусей шел в то время дворовый человек Кирилла Петровича Шпака через поля господина своего, увидел проступки их, выгнал из нивы и погнал прямо на барский двор все-таки своего господина. Кирилл Петрович узнал, в чем дело, и как был темперамента холерического, в чем уверился, отыскав по Брюсову календарю[281] планету, под коей родился, то, не размышляя долго и не сообразив последствий, приказал тех гусей побить… да, именно тринадцать гусей, принадлежащих не ему, а Никифору Омельяновичу Тпрунькевичу. Бедные гуси! Памятно им будет 21 июня… Но и Кирилл Петрович Шпак повек не забудет его!.. А именно, вот какие последствия произошли.
На другой день достопамятного 21 числа, узнав о происшествии с гусями, Никифор Омельянович Тпрунькевич приказал купить три листа гербовой бумаги 50-копеечного достоинства, написал ужасно пространную просьбу, в коей подробно изложил, что близкий его сосед по имению, Кирилл Петрович Шпак, утесняет его, Тпрунькевича, яко мелкопоместного, и делает ему разные неслыханные обиды ежегодно, ежемесячно, ежедневно и ежечасно, и, наконец, описано самоуправное взятие с полей его, Тпрунькевича же, тринадцати гусей и безжалостное побитие их. Тут в подробности изочтен весь могущий быть приплод от сих тринадцати гусей, польза от мяса, потрохов, перья и пуху с них, обстоятельно выведена сумма в сложности десятилетнего дохода с процентами, и в таковой сумме подано исковое прошение.
Кирилл Петрович не плошал. Он был в этой части опытен. Купил шесть листов бумаги такого же достоинства и написал прошение еще ужаснее, нежели Тпрунькевичево. Тут изложены были все дерзости Никифора Омельяновича против него, Кирилла Петровича, личные неуважения, насилия по имению, с давних времен им производимые безнаказанно, и что между прочих притеснений сего владельца и подвластных ему даже самые гуси его решились нанести и нанесли ему обиду, выбив у него овса десять десятин; доход с них вычислен аккуратно и приведен в сложность за десять лет также с «проценты». Сумма иску вышла гораздо значительнее, нежели у Никифора Омельяновича Тпрунькевича.
Само по себе разумеется, что дело возгорелось сильно. Пошли следствия, свидетельствования, справки, обыски; кроме того, что не один раз каждый из спорящихся обязан был на свой счет поднимать суд, призывать понятых и угощать всех, но и писание прошений и отзывов чрезвычайно умножилось, и уже спорящимся надоело тягаться. И как ни надоесть, когда еще с начала дела до 1837 года не приведено было в ясность, что потерпела одна сторона через потравку овса в поле от 13 гусей, а другая от потери сих самих гусей! Вот как обоим надоело писать и отписываться, зазывать суд и понятых и угощать их, то уже обе стороны начали поговаривать о «примирии» между собою. Как вдруг, неизвестно только которого числа 1837 года, в день, неблагоприятный для Кирилла Петровича Шпака, явился к Никифору Омельяновичу Тпрунькевичу человек с пред ложением написать новое прошение и быть по том у делу поверенным. Он уверял при том, будто бы Кирилл Петрович от того прошения так струсит, что поспешит миром прекратить дело, заплатя искомую сумму «со всеми проторы и убытки, проести и волокиты».
Восхищенный Никифор Омельянович ухватился за совет благодетельного поверенного, заключил с ним условие, по коему обязался платить условленную сумму, до окончания дела содержать его на своем столе, возить в своем экипаже, выдавать особо на расходы по делу и сверх того снабжать «отсыльною провизиею» семейство поверенного. Прошение было изготовлено, подписано и подано… И что же узнал Кирилл Петрович Шпак? Во-первых, в том прошении именуют его по-прежнему, против чего он уже возражал неоднократно, не Кириллом, как следует, а Кирилою, в явную насмешку; а, во-вторых, добавлено, что «Кирилл Петрович взвел сие дело на Тпрунькевича от праздной жизни, подобно, как делали предки его и сам родоначальник их, занимавшийся одним давлением шпаков, т. е. скворцов, от какового занятия дано им и прозвание, а частию и потому, что оный Шпак одарен глупостию, подобно твари, птице шпаку, от чего он и есть естественный шпак».
Это взорвало до крайности Кирилла Петровича. Оставя читать газеты, он «благим матом» пустился в самый Чернигов. Хотя потратил много денег, но достал из Малороссийского архива все выписки и доказательства, кто именно были Шпаки, чем отличались перед ясновельможными гетманами и по какому случаю дана им сия фамилия и герб, в котором ясно изображен «спевающий шпак», т. е. скворец поющий, имеющий разинутый рот. Приобретя таковые драгоценности, он нашел еще и клад: приговорил поверенного, имеющего дар писать прошения не черня, набело прямо, и могущего расплодить дело на несколько отраслей и вести процесс хоть пятьдесят лет. Знаменитый адвокат был Хвостик-Джмунтовский.
Этот благодатный поверенный принялся за дело. Опровергнув всю клевету Тпрунькевича на Шпака чисто, ясно и аргументально, он начал выводить производство фамилии Тпрунькевича. И как первоначальный в ней слог есть «тпру», то и полагал он, что родоначальник его происхождением своим обязан коню, на коего кричат «тпру», или «уповательно» родоначальник был цыган, коновод и проч., и проч. И такого написал в том прошении, что Никифор Омельянович чуть не лопнул с досады, перечитывая это прошение. В заключение Кирилл Петрович, или его поверенный, просил суда о личной ему и всему роду обиде и удовлетворении его за каждого обруганного предка, бесчестьем противу ранга каждого, коим он приложил и именной список с показанием службы и должностей их.
Вот тут-то и закипело дело! Следствие об овсе и гусях, яко о тварях неразумных, оставлено впредь до рассмотрения, а приступлено к спору двух умных существ, претерпевших одно от другого тяжкую обиду укорением знатности рода. Пошли писать, пишут и поныне и будут писать еще долго, долго, пока спорящие не помирятся; но вряд ли последует между ними когда-либо мир, потому что особенный случай воспрепятствовал тому.
Рассказ да послужит вместо предисловия, потому что мы уже не обратимся к процессу Шпака с Тпрунькевичем, но обстоятельство это довести до сведения мы обязаны были, как видно будет из последствий.
Вот в чем дело.
Кирилл Петрович Шпак в молодости своей служил немного в военной службе и еще менее того в гражданской по выборам. Из первой он должен был поспешить выйти по причине разнесшихся слухов об открывающейся войне с турками; а, вступив из кандидатов в заседатели верхнего земского суда, располагал продолжать службу со всем рвением – должность пришлась по нем – но после двухмесячной службы его суд сей был уничтожен и он возвратился в деревню.
Родители его померли, и он был полновластный помещик 357 душ со всеми угодьями. Он поспешил исполнить обязанности дворянина: женился на дочери помещика значительного, устроил порядок по хозяйству, нанимал управляющего за значительную сумму, и сам иногда, при свободном времени, входил в положение дел по экономии – иногда, в свободное время, точно ему редко выходил досуг. Он очень любил заниматься политикой, и для удовлетворения своей страсти он платил архивариусу своего уездного суда, чтобы тот, по прошествии года, доставлял ему все сполна номера «Московских ведомостей» истекшего года. Привоз сих «поли тических материалов», как называл ведомости Кирилл Петрович, отрывал его от всех занятий. Он уединялся в свой «кабинет» – так он называл свою особую комнату, где на столе, кроме чернильницы, песочницы, счетов и при столе стула, не было ничего более. Тут он прежде всего принимался складывать ведомости по страницам, для чего много нужно было времени, потому что в уездном суде читали ли газеты или нет, но они перемешаны были порядочно. Приведя все это в порядок, Кирилл Петрович сам сшивал каждый номер, боясь поручить это дело кому неграмотному: тот бы опять перемешал листы и доставил бы ему новый труд и заботу.
Уладив таким образом, тут уже он принимался за чтение. Чтение же у него происходило не обыкновенным, но собственно им придуманным порядком. Во-первых, он «отчитывал», как он говорил, все внутренние известия и узаконения, со всеми происшествиями, по России бывшими. Окончив известия в 104-м номере, он с самодовольством поглядывал на жену свою и говорил ей: «Уж теперь, Фенна Степановна, я все знаю, маточка, что в прошлый год в России сделалось».
– Вам ли не знать, душечка? – ответствовала Фенна Степановна. – Вы знаете, что и за Россиею делается.
– О, нет еще, – а вот к концу года буду знать все, только не мешайте мне, маточка!
И тут он удалялся в свой «кабинет» и принимался отчитывать все происходившее в Испании. Он был ревностный защитник прав малолетней королевы, а дона Карлоса со всеми карлистами не мог терпеть и бесился при удаче их[282]. Внимательно проходя от номера до номера дела испанские, как он был однажды взбешен на редакцию ведомостей, и вот за что: начитал он в статье об Испании, что христиносы разбили карлистов знатно. Он торжествовал и веселился – как, отчитывая Францию, нашел, что то известие о разбитии карлистов было ложное… Уж досталось же всем: и издателям, и сообщившим эту статью в Париж… «И зачем в Париж? Почему они прямо у себя не напечатали?» – кричал он в сильном гневе.
– Не тревожьтесь же так, Кирилл Петрович, – уговаривала его Фенна Степановна. – Эти газетчики иноверцы, бусурманы, в пост едят скоромное, так их и попечение в том, чтоб православных тревожить, вот как и вас теперь взбесили. Плюньте, душечка, на них.
Отчитавши все статьи об Испании, он принимался за Францию, по его примечанию, больше всех способствующую христиносам; потом отчитывал прочие государства и заключал Англиею, не любимую им за подвоз оружия карлистам. За политикою следовало отчитывание объявлений казенных и потом частных, все же по порядку. Когда начинал о продаже имений, то прочитывал все объявления сего рода до конца, и потом о продаже книг, забежавших собаках и проч. и проч., все же под один разбор.
В субботу нарушалось его чтение в «кабинете». По заведенному Фенною Степановною порядку в этот день должны быть перемыты все полы в доме. Как же они с первых дней супружества дали друг другу слово заниматься особыми частями хозяйства и в чужие распоряжения не вмешиваться и не препятствовать, потому Кирилл Петрович с утра каждой субботы, схватя свои ведомости, уходил при благоприятной погоде в сад, а в противном случае к столярам, в рабочую, где при стуке долот и молотков радовался поражению карлистов.
Невыгодны были для лета подобные переселения. В «кабинете» он запирал двери на крючок и не впускал к себе Фенны Степановны ни за что, пока не окончит статьи. В сад же и в столярную она входила свободно и без дальних приготовлений прерывала мужнино чтение. Впрочем, причины, по коим она приходила к нему, были, по ее мнению, довольно важные и не терпящие отлагательства, как, например, следующая.
В одну из суббот Кирилл Петрович, проснувшись ранее обыкновенного и ожидая нашествия поломоек с ведрами и судками, схватив «Московские ведомости», в халате, туфлях и колпаке вышел в сад и расположился на скамейке, под развесистою яблонею. Неожиданно попалась ему статья, извещающая о сильном поражении карлистов. С наслаждением перечитывал он статью в третий раз и затверживал о числе убитых, чтобы подробно пересказать соседям при случае, как вдруг приходит к нему Фенна Степановна…
Он ее заметил еще издали и уже тревожился заранее, что будет прерван и в интересном месте… Она подходит и, не обращая внимания на суровость, видимую уже на лице его, приблизясь к нему, говорит:
– Вот куда они забрались! Я вас, душечка, по всему дому искала!
Кир. Петр. (приставив палец к газетам, продолжая читать: «Потеря карлистов простиралась…» Но, видя, что жена подошла к нему и остановилась, следовательно, не отойдет без ответа, сказал):
– Где же мне в доме усидеть, когда все полы моют?
Фенна Ст. Помилуйте вы меня, где ж моют? Проспали, канальи, долго и только теперь еще приготовляются.
Кир. Петр. Ну, уж вышел, так вышел, назад не пойду. Да что вам, маточка, тут надо?
Фенна Ст. Дело есть, душечка, поговорить.
Кир. Петр. У вас всегда найдется тут дело, когда я займусь чем. Дайте же мне, маточка, вот немного времени: завязалось сражение и, кажется, будет кровопролитное. Дочитаю, займусь вами.
Фенна Ст. Да нуте же, полно! Уж как примутся сражаться, так ничем и заняться не хотят. Вспомнили б и свои лета: куда уж вам думать о кровопролитии?
Кир. Петр. Ох, какие вы докучливые! Нуте, уже говорите, что вам надобно, да и оставьте меня.
Фенна Ст. (вынимая из кармана пузырек). А вот, душечка, что. Не хотите ли принять лекарства?..
Кир. Петр. Помилуйте меня, маточка! Я совсем здоров. На что мне лекарство и какое оно?
Фенна Ст. Так что же, что здоровы? Станете еще здоровее, лишнее здоровье никогда не мешает. А это лекарство от колики. Нате-ка, выкушайте.
Кир. Петр. Да меня нигде ни колет! (И тут, придя в холерическое состояние, отодвинул от себя газеты и начал говорить с жаром:) Помилуйте меня, Фенна Степановна! Это разорение с вами! Что вам вздумалось здорового человека лечить?..
Фенна Ст. Я вовсе не лечу, а хочу усилить еще больше здоровье ваше. Видите что, прибирая у себя в шкафу, смотрю, баночка с лекарством. Помните ли, душечка, прошлого года зимою я поела на ночь буженины с чесноком и меня схватила колика – чуть души богу не отдала. Спасибо, Иван Фомич тогда прописал мне это лекарство…
Кир. Петр. Так то же у вас колика была, а не у меня. Вы же, маточка, тогда буженины на ночь накушалися, а я вчера, почитай, и не ужинал. Оно же прошлогоднее, никакого действия не произведет. Лучше вылейте его.
Фенна Ст. Помилуйте вы меня, Кирилл Петрович! Я вам не наудивляюсь. Человек вы с таким умом, а какие нелепости представляете. Вылить! Как так вылить, когда вещь стоит рубль двадцать копеек?..
Кир. Петр. (с жаром). Помилуйте же и вы меня, Фенна Степановна! Я тут и в толк ничего не возьму: у человека все благополучно и нигде не колет, так пей прошлогоднее лекарство, чтоб деньги не пропали! И с чем его принимать, с чаем или с вином?
Фенна Ст. И сама не знаю, что-то забыла, а ярлычок оторвался. И того не помню, внутрь ли его принимать, или снаружи мазать? Ей-богу, не помню, хоть сейчас убейте меня, не помню! (Ласкаясь к нему.) Да нужды нет, душечка, тут его немного, всего один прием. Любя меня, и не очувствуется, как проглотите. Нате же, выкушайте.
Кир. Петр. Умилосердтесь надо мною, Фенна Степановна! Что вам за каприз пришел мною, как шашкою, играть? Я, кажется, вышел из тех лет, чтобы мною управлять: я хочу жить своим умом. Ну, хорошо, я его приму, а оно наружное? Мне оборвет горло или уста сожмет, что и хлеба куска не пропихну в рот. И если еще оно со шпанскими мухами[283], так что тогда будем делать? Ну, когда вам жаль денег, так отдайте выпить Мотре.
Фенна Ст. Её ли хлопскому горлу глотать по рублю двадцати копеек? Где ваш рассудок?
Кир. Петр. Так идите же себе, ради бога! Хоть сами выпейте, хоть собаке отдайте, мне все равно. Не мешайте мне читать газет. (Читает.)
Фенна Ст. (отойдя от мужа). Так уже и с собакой меня сравняли! Прекрасно! Уж я давно заметила, что газеты предпочитают супружескому согласию, и уже не спрашивай, чтобы жене угодное что сделать!.. Что за чудный нрав у них делается! Чем более стареются, тем больше во всем отказывают, и к ним ни приступу… тотчас осердятся.
Последние слова она проговорила сквозь слезы, а, пришедши к себе в комнату, она порядочно всплакнула и оставила все наблюдения за мытьем полов.
Фенна Степановна была дочь помещика с порядочным состоянием. Воспитана по-тогдашнему и научена всем частям домоводства. Читать могла только утренние и на сон грядущий молитвы; далее в молитвенник не заглядывала, а о гражданском боялась и помыслить, почитая все глупостию, вздором, греховным писанием (как будто читала нынешние книги!). Вышедши замуж за Кирилла Петровича Шпака, она во всей строгости исполняла правила, внушенные ей в отношении к мужу: почитала его умнейшим, совершеннейшим человеком в мире, но тщеславилась, когда могла уличить его в какой ошибке, недосмотре или неосновательном суждении в семейных делах. Под старость эта слабость в ней усилилась, и она при каждом случае упрекала его, не разбирая, справедливы ли ее замечания. В распоряжения его по хозяйству она вовсе не входила, и хотя бы Кирилл Петрович приказали зимою пахать, а летом оставили траву в поле не косив, она не вмешивалась, и в подобных случаях, махнув рукою, говаривала: «Они мужчина, это их дело». Свою же часть, домашнее хозяйство, знала в совершенстве и превосходно все устраивала. Как отлично выкармливались у нее кабаны, поросята и вся домашняя птица! Какие хлебы, пироги, вареники, ватрушки, борщи разных сортов, наливки со всех ягод и плодов, водки на разные коренья двоенные – это прелесть! За пятьдесят верст в окружности и подобного не можно было найти. Уж подлинно с удовольствием часто съезжавшиеся к ним гости проводили время. Именно окармливаемы были! Во всем доме чистота удивительная. Малороссийская барыня в совершенстве!
Можно было осудить ее за невнимание к туалету, но она – у себя дома. Притом же столько частей нужно было осмотреть с самого раннего утра, и потому-то она, лишь пробуждалась, схватывала, разумеется, юбку, на босу ногу башмаки и, прикрыв свои «роскошные плечи» большим кашемировым платком, купленным в Ромнах на ярмарке еще в 1818 году, приносила утренние молитвы. После моления исходила на дела свои. А какая добрая была! При таком множестве частей хозяйственных, требующих ее распоряжений, наставлений, приказаний, она при неисправностях – где без них бывает? – не то чтобы не сердилась, без того не может ни один человек пробыть, и она сердилась и крепко сердилась, но никого не потузила, не дала пощечины и не порвала за волосы и даже за ухо. В самом сильном гневе она иначе не бранила виновную, как «какая ты бестолковая!» Если обстоятельства не требовали, она целый день не переменяла своего утреннего костюма, к довершению коего, я забыл сказать, она носила на голове платок темного цвета, фигурно навязанный и укрепленный булавками на сахарной бумаге, и этот убор она, сняв на ночь, ставила подле себя и, вставая, прежде всего спешила накладывать, всегда готовый и в порядке, на голову, подбирая под него длинные черные волосы. Это было у нее правилом религиозным. Она слепо верила, что замужняя женщина, не покрыв головы и не скрыв на ней до последнего волоска, призывает гнев Божий: неурожай хлеба, болезни на людей, падеж скота и т. п., и потому крепко береглась, чтоб «не светить волосом».
Когда же докладывали, что приказчик или посторонний кто имел к ней надобность, тут она, несмотря на время года, вздевала на себя матушкину приданую зеленого штофа с опушкою сибирок епанечку и допускала к себе требователя аудиенции, и часто, в жару разговора или при сильных доказательствах, когда ей нужно было размахивать руками, епанечка уходила вся на спину, удерживаясь только на шее завязанными лентами, и для беседующего с Фенною Степановною тогда было все равно, если бы она и не вздевала епанечки.
Но когда, завидев едущих гостей, извещали ее, тут шло все иначе. Приказав лакеям выдать из кладовой немецкие сапоги и синего сукна сюртуки и подтвердив ключнице наблюдать, чтобы они скорее оделись и были по своим местам, посылала к Кириллу Петровичу объявить, чтобы скорее «умылися и нарядились», и сама принималась за себя: вздевала ситцевый с большими разводами капот, покрывала его персидским белым платком, снимала с головы вечный убор и вздевала особо для таких случаев приготовленный чепчик, сделанный «мадамою» на Роменской ярмарке в том же 1818 году; но тогда на нем были ленты розового цвета, а теперь, когда Фенна Степановна устарела, то переменены на желтые.
Она у родителей была единородное дитя, и по смерти их довольно порядочное имение присоединила к мужниному, но никогда не называла его своим или даже нашим имением, а всегда говорила: «Ваше имение, с вашего имения приехал человек», – доказывая: «Когда я ваша, то уже не имею собственного ничего, все мое – ваше, так нам закон повелевает…»



