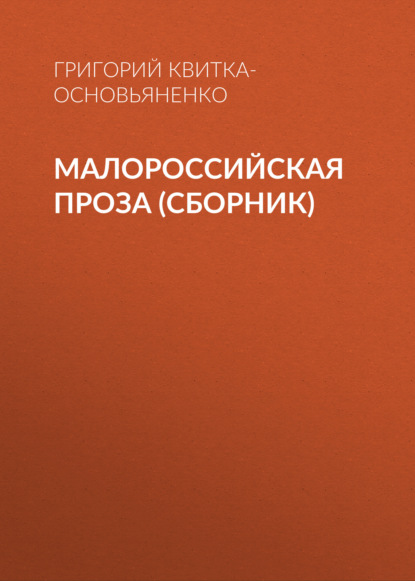 Полная версия
Полная версияМалороссийская проза (сборник)
Фенна Ст. Конечно, вы господин в своем имении, но я, как задаром данная вам помощница, я чувствую свою «обовязанность» и должна вам подать совет: сколько уже стоит нам это дело, так ужас! Не лучше ли б помириться, заплатить за тех проклятых гусей?..
Кир. Петр. (с жаром). О, ни за что! Пусть он себе, этот Тпру-тпру-тпрунькевич и в головах не покладает, чтобы я ему хоть одно перышко на тех гусей воротил! Он коснулся чести моей и всех Шпаков.
Фенна Ст. Как себе знаете. Где дело коснется до чести, то я уже там никакого понятия не имею и плюю на все. А подумать бы и вам со мною надобно (тут она уселась на софе, и вскоре подсел к ней и Кирилл Петрович), чтоб не было лишних расходов, вот-вот придется Пазиньку замуж отдать, так чтоб было чем.
Кир. Петр. Да, признаться сказать, время приходит, а женихов что-то не слыхать. Приезжающих я ласкаю, показываю все хозяйственное, часто иного и ночевать оставляю, но все не слышу ни от кого и никакого намека.
Фенна Ст. Это удивительное дело, да и полно. Кажется, по всему девка. И по хозяйству чего она только не знает! Да нет ей суженого. Я у батиньки и не так была богата, как наша Пазинька, а женихов было, что собак. А отчего? Покойник батюшка – о, умная голова была! – поднялся на хитрости: закупил всех смотрителей на соседних станциях, чтобы в один голос лгали, рассказывая проезжающим, что у такого-то помещика, то есть у моего батиньки, дочь, барышня, и богатая, и красивая, и разумная. Так, верьте или нет, ежедневно не было от женихов отбою.
Кир. Петр. (положив ей на плечо руку). На все, маточка, судьба, я ни от кого не слыхал о тебе и не знал, есть ли ты и на свете, а судьба – как судьба! Мимоездом заехал да разом и влюбился в тебя по уши… Смотрю, девка кровь с молоком, да подступить не смею. Для смелости натянулся с твоим батинькой наливки, он принялся за гусли да как дернет горлицы, а я и разносился, да вприсядку…
Фенна Ст. (разглаживая на лбу ему волосы, потом обняла его). Эта-то горлица меня и доехала! Вы носитесь вприсядку, а я так и таю… (Целует его в лоб.)
Кир. Петр. Уж как, что было в тот вечер, ничего не помню, а назавтра проснулся твоим женихом… (Целует ее.)
Так, разговаривая и вспоминая прежнее, былое, старички забывали об устроении счастья своей дочери, а предоставляли это судьбе, которая и их свела для их же блага.
И точно, судьба принялась устроить участь Пазинькину. Поблизости, в имении Кирилла Петровича, как и во всех близлежащих деревнях, расположены были квартирами роты пехотных батальонов. В селе нашего Шпака квартировал ротный командир, капитан Иван Семенович Скворцов, в форме пехотный офицер, молод, строен, красив, ловок, умен, сметлив, образован, как воспитанник кадетского корпуса, но беден и не имел в виду ниоткуда получить что-либо, кроме небольшого домишка в русском губернском городе, если прежде него умрет родной дядя, отставной генерал-майор. В этом обнадеживал дядюшка своего племянника и сверх того обещал отказать ему и всю движимость, какая останется после него в доме, с условием только, чтобы племянник не женился «без расчету», яснее – без приданого.
Итак, видимое дело было, что Ивану Семеновичу иначе нельзя устроить своей участи, как выгодною женитьбою на достаточной деревенской барышне. При частых переменах квартир он находил и достойных невест так же часто. Первое дело – влюбить в себя деревенскую девицу – он успевал скоро. И которая бы из них уклонилась от этой сладости? Года два не видав ничего порядочного, вдруг увидеть красивого ловкого молодого офицера и услышать от него льстивые похвалы… Как тут устоять? Итак, сделав первое дело, он приступал ко второму. Как почтительный племянник, а не как жаждущий получить в наследство старенький домик о пяти комнатах, он писал к дяде, просил позволения на брак с такою. Получив согласие, приступал к третьему: относился к родителям девушки, от коих всегда получал отказ. Эти родители ужасные люди! Имея красивых дочерей с достаточным приданым, иначе не хотят выдать их как за богатых, а о бедном и думать не хотят.
Иван Семенович, получая на всех квартирах отказы, потерял надежду на будущее, и потому, занявши квартиру в селе Кирилла Петровича и услыша, что у него одна дочь, наследница такого имения, которое превышало имения тех невест, на коих он когда-либо сватался, – тут было о чем подумать и расположить план атаки. Он поспешил засвидетельствовать свое почтение хозяину деревни и был им радушно принят. Умный образованный собеседник в деревне – находка и не одному Кириллу Петровичу.
Не прошло полных трех дней, как Иван Семенович, выслушав все выигрыши христиносов, знал потери карлистов, затвердил имена генералов обеих партий и с нетерпением ожидал, когда Изабелла, истребив всех мятежников, станет покойно владычествовать. Хвалил масла и медовые варенья Фенны Степановны (сахарными его еще не потчивали, потому что он гость не из важных; от наливок же он с первого раза отказался под предлогом, что не начинал еще пить ничего крепкого – условие, необходимое для желающего войти в доверенность родителей), хвалил и просил научить его, как это все так отлично делается, а он бы научил тому тетушку свою, генеральшу…
– Так ваш дядюшка генерал? – спрашивал Кирилл Петрович.
– Да-с.
И после того Кирилл Петрович не садился прежде Ивана Семеновича и во всем сделался к нему «политичнее».
На Пазиньку он и не смотрел никогда, и в первый раз, когда она вошла, Иван Семенович и не приподнялся со стула, чтобы ей поклониться, да уже Кирилл Петрович сказал: «Это дочь наша». Тут он легко привстал и сухо поклонился. Далее таких поклонов дело не шло очень долго.
Как между тем он же, Иван Семенович, самым точным образом сшивал газеты Кириллу Петровичу, а сидя в спальне Фенны Степановны, всколачивал в большой бутыли сметану на масло или наблюдал за жаром жаровни, на коей варилось медовое яблочное «повидло». Потом уже бегал по кладовым и отыскивал Мотрю к барыне, кличущей ее.
Одним словом, не прошло и месяца, как Иван Семенович в доме Шпаков не только был как свой, но сделался необходимым. Кирилл Петрович и Фенна Степановна скучали, если Иван Семенович по службе отлучался на несколько дней или если даже к ужину не приходил, а об обедах и говорить нечего. Он обедал каждый день у Шпаков, и уже посуда пос тавлялась не фаянсовая, а простая, и прислуга была не в синих сюртуках и не в немецких сапогах.
Уже он свободно разговаривал и даже зашучивал с Пазинькою. Она оставила свою робость и не только свободно отвечала, но иногда относилась к нему с вопросами, например: «Не прикажете ли подать вам покушать ягодок каких?» и т. под. Он начал было называть ее Пелагеею Кирилловною, но Фенна Степановна против этого восстала и сказала: «Да ну тебя! (дружественное „ты“ он приобрел почти с первого знакомства). Еще и такую девчонку величать! Она дитя против тебя, да ты же и капитан, Пазинька, да и Пазинька по-нашему».
И Иван Семенович со всем усердием величал ее Пазинькою, а в отсутствие родителей прибавлял: «Милая Пазинька».
– Любите ли вы читать книги, милая Пазинька? – спросил он ее, когда они, вычищая из вишен косточки для варенья, остались одни.
– О, как же! Очень люблю.
– Какой у вас любимый сочинитель?
– Люби, Гари и Попов[289]. Я только этого сочинителя и читала.
Такому ответу не удивился Иван Семенович: он слыхал часто подобные.
Ему нужно было с этой точки начать свою атаку к невинному сердечку Пазинькиному. И так он, к слову пришлось, предложил ей книжечек еще новейших сочинителей.
– Ах, сделайте милость, одолжите! – просила Пазинька. – И, пожалуйста, каких пожальче: я люблю жалкие истории. Только знаете что? Когда будете давать книжки, то как можно посекретнее, чтоб маменька не видала.
Ивану Семеновичу очень непротивно было такое условие, и Фенна Степановна точно никогда не заметила, когда он приносил и передавал дочери ее книжечки в премиленьких переплетах. Все лучшие творения наших известных писателей Пазинька уже прочла, оплакала страдавших героев в них, восхищалась их счастьем; читала лучшие стихотворения и не только читала, но и понимала, разумеется, не красоты и не изящность в них, а содержание, – довольно и того для Пазиньки, дочери Кирилла Петровича и Фенны Степановны Шпаков и ученицы m-me Torchon и конюха Мирошки.
Одного не могла понять Пазинька: отчего это Иван Семенович, когда отдает ей книги, то непременно пожмет ее руку и так ей быстро смотрит в глаза, что ее даже начнет морозить со спины. А вот недавно начал при вручении книг уже просить, чтоб она ему улыбнулась. Она исполняла просьбу его, но не понимала, для чего это ему? Поверив свою улыбку в зеркало, она, не найдя в ней ничего особенного, осталась при своем недоумении. Как вот в каком-то романе начитала не то чтобы подобное тому, но объяснившее, для чего он это делает… Ага! Бедная Пазинька, разгадавши эту штуку, бросила книгу, лежала, думала. Щечки ее раскраснелись, глазки мутились, иногда проскакивали слезки… Думала, а между тем свечка все горит, хоть солнце и давно уже взошло…
В тот день встреча Пазиньки с Иваном Семеновичем была, как должно в подобном положении: лишь она слышала приближающиеся шаги его, то, как птичка, быстро убегала в свою комнату и дрожала всем телом, когда же непременно должна была находиться в присутствии его, то не видела света божьего, не расслышивала приказаний матери и отвечала все напротив. А он, Иван Семенович, и ничего! Еще все веселее был, нежели вчера, охотнее бегал по всем посылкам Фенны Степановны, а на Пазиньку и не глядит. «Спасибо ему, что хоть при маменьке не смотрит на меня!» – думала Пазинька.
Окончив вечерние приказания, что должны сделать женщины завтра, Пазинька спешила раздеться и заняться романом, дочитать самое интересное, а она остановилась вчера на самом прелестном месте… Нетерпение, внутреннее волнение, предчувствие удовольствия от чтения такого произвели на щечках ее румянец, что Дуняша, раздевая ее, заметила и даже вскрикнула:
– Ах, барышня, какие вы хорошенькие! Ну, как бы увидел вас теперь Иван Семенович!
– Так что же? – вскрикнула Пазинька, поспешно закутываясь вся в одеяло, как будто бы Иван Семенович вот-вот и войдет.
– Так то, барышня, что мы все, дворовые, думаем: как бы он вас посватал, а вы бы за него пошли – то-то бы парочка была! Вы хорошенькая, и он красавчик. Как бы вас теперь увидел, то верно завтра бы и посватал.
– Бог знает что! Иди себе, я спать хочу, – сказала Пазинька и начала жмурить свой прелестные смутившиеся глазки.
А неправда же, Пелагея Кирилловна; вы вовсе не хотите спать. Вы встали с постели. Из шкафика своего, от которого ключ у вас на шнурочке висит на шейке, достали милую книжечку и принялись было читать… Но что-то вы читаемого не понимаете. У вас в ушах раздаются последние слова Дуняшины… Вот вы положили книжечку, ручки свои скрестили на белой прелестной груди вашей, задумались… А о чем вы думаете, Пелагея Кирилловна, а?.. Ну, как Фенна Степановна узнает ваши мысли?.. Уф! Это предположение вас испугало, вы вскочили… Аж, боже мой! Уже солнце взошло!.. Опять вы провели ночь странно, необыкновенно!
День за день случай доставлял часто встречаться Пазиньке с Иваном Семеновичем, быть с ним вместе, переливать заслащенные водки из одного штофа в другой – и ничего. Как будто ничего и не было между ними. Иван Семенович, доставляя Пазиньке книги, просил ее улыбнуться; она улыбнется, а на конец уже начала и приговаривать: «К чему… Для чего вам это?..»
– Для моего счастья! – скажет Иван Семенович и уйдет скоро. Бог знает, к чему он это говорит?..
В один день Иван Семенович, вручая книги Пазиньке, не говоря ни слова, вдруг поцеловал ее ручку… Какое-то облако покрыло Пазиньку… Она зашаталась, чуть не упала; облако медленно прошло, его нет, а она долго не могла сойти с места. Ручки же своей, на которой то место, где он поцеловал, горело как после ляписа, она боялась выставить на глаза матери и все прятала ее. Почему бы Фенне Степановне узнать, что Иван Семенович поцеловал руку дочери ее? Да подите же вы с Пазинькою! Она этого ожидала и в необыкновенном положении провела весь этот день.
Скоро после того Пазинька возвратила книжки Ивану Семеновичу, и он опять поцеловал ручку ее. Принес новых книг, отдает, опять целует ручку. И уже так пошло, что Пазинька, отдавая или принимая книжки, наверное знает, что он поцелует ей руку; а, если правду сказать, чуть ли она уже и не стала ожидать того и даже желать…
Однажды, видно в рассеянии, Иван Семенович, вместо беленькой ручки, да поцеловал Пазиньку в розовые губки… и, как молния, исчез… – «Что это такое?.. Что из этого будет?» – через полчаса только могла Пазинька подумать и думала об этом весь день, против воли. Губки ей напоминали о том: они горели, как будто после… нет не ляписа, а как будто после первого поцелуя любви. Помните ли, сударыня, как они горят? Ну вот, так они горели и у Пелагеи Кирилловны.
«Что из этого будет?» – думала весь день Пазинька. А вот что будет. В древности или, как приговаривают наши старики, «еще не за нашей памяти», когда Амуры, Венеры и проч. подобные им были у людей в почтении и им строили храмы, то при храме Венеры, или чистой брачной любви, воздвигаемо было преддверие, посвященное «Надежде». В жертву ей приносили чистый, непорочный поцелуй. Совершившие такую жертву тогда уже могли входить «и в храм любви» для принесения жертвы, требуемой обрядом. В подобном чем-то это правило дошло и до нас. Если поцелуй первый дан, должно уже приступить к браку или, по крайней мере, условиться насчет его.
Та к поступил и Иван Семенович. Через несколько дней после первого поцелуя, когда полагал, что губки Пазинькины уже перестали гореть, он вызвался Фенне Степановне, озабоченной какими-то суетами, идти к пруду, где особенно устроено было заведение для молодых утят. Прудок этот обсажен был ветвистыми деревьями, разросшимися до того, что в тени их было так темно и мрачно, что и при ясном солнечном сиянии нельзя было различить предметов. Прудок этот был огорожен, и к воде пущена одна калитка, куда утят выгоняли из воды на ночь. Иван Семенович принял на себя обязанность поверить утят, старых уток, наседок, осмотреть, есть ли у них корм в достатке и т. под. Подобные следствия он, желая облегчить заботы Фенны Степановны, часто принимал на себя и исполнял их со всею точностию и к удовольствию Фенны Степановны.
Иван Семенович пошел. Но посмотрите: не делает ничего, не ревизует, не осматривает; а стоит себе, преклонясь к дереву, и жадно смотрит на калитку. Он знал обычай Пазиньки, что если матери не время осмотреть какую часть по хозяйству, а для осмотра всего были установленные дни и почти часы, то шла сама и исполняла вместо матери. Теперь, увидев, что маменька занялась поверкою и приемом мотков, приносимых сельскими пряхами, она не захотела оставить утят без наблюдения, как следовало в это время дня, а потому, не сказавшись матери, пошла к пруду…
От пруда воротилась скоро, через час с четвертью, весела, жива, проворна, говорлива, но матери не сказала, что она ходила навестить утят. Через полчаса пришел Иван Семенович и отдал полный удовлетворительный отчет о благосостоянии всего утиного общества и получил от Фенны Степановны благодарность. Странное дело, что Иван Семенович, возвратясь из следствия, был как не тот: глаза его горели, голос был мягкий, нежный, и он сам как будто исполнен какой-то гордости. Пазинька не отлучалась к себе, весь день пробыла со своими, не только говорила, но и шутила с Иваном Семеновичем, чего давно за нею не было, и, чего никогда за нею не было, ударила его по руке, когда он за ужином насыпал перцу в ее тарелку с молочною кашею.
Чего же они обое так развеселились? Еще-таки Иван Семенович, тот никогда не утихал, только не затрагивал Пазиньки, а теперь так и морит ее со смеху. Она же как вдруг переменилась: из скромной, застенчивой вдруг вышла такая говорунья и хохотунья, что ее и не узнаешь. Отчего же это?
А вот, изволите видеть, отчего. Иван Семенович как пошел оглядеть утят да, пришедши на место, не думал и о старых утках, а стоял, как сказано, у дерева над прудом и быстро внимательно смотрел на калитку. Сия… виноват, эта… нет, нет, извините, оная… Тьфу пропасть! Я так занимаюсь спорами насчет этих слов, что боюсь употребить которое-нибудь из них, чтобы и не прогневить противников… Итак, грех пополам: калитка отворилась, и из-за нее мелькнуло белое платьице… Иван Семенович уже близ него, взял это платьице за руку, удержал его, потому что оно хотело вырваться и убежать… Платьице осталось, а Иван Семенович начал говорить… Как он прекрасно, сильно говорил! Без слез нельзя было слушать его трогательных и нежных речей. Жаль только, что никто не слыхал и не знает, что он говорил. Даже и та, которая была в беленьком платьице, а это была не другая кто, как Пазинька, так и она не могла ничего понять из прекрасных его и трогательных речей (да вряд ли сам он понимал что-либо!). Ей только и слышались слова: «люблю, любить, любя», и она, слушая их целые полчаса, до того наслушалась, что и сама, сначала робко, едва выговаривая, а потом уже очень внятно произносила: «люблю, любить…», а там они оба уже, сладивши дело, заговорили вместе: «люблю, любить, любим, любить…» Более у них ни о чем и помину не было, и, кажется, забыли считать утят, зачем пришли. Эти слова они говорили и стоя, и ходя по дорожке, и когда он целовал, что делал почасту, ручку ее. Потом замолчали оба по той причине, что он ее поцеловал, потом она его, и, наконец, обое вместе поцеловались страстным, долгим поцелуем, и тут она убежала к дому, и Иван Семенович тихо, важно, радостно пошел за нею, и пришли, как сказано, не вместе. Вот отчего они были так веселы после того. Не мудрено. Помните ли, как вы были веселы в тот день… знаете?.. Я живо помню все. И было отчего быть веселу!
На другой день Иван Семенович пришел очень серьезный и так же серьезно просил Кирилла Петровича и Фенну Степановну поговорить с ним особо. Говорили-говорили, часа два говорили… А Пазинька все это время в ближней комнате то стояла, прислушиваясь, то, теряя силы, садилась, бледная, то вдруг раскраснеется и начнет ходить по комнате, без жалости ломая свои белые ручки. Нередко утирала она и слезки, стараясь скрыть состояние души своей, если позовут ее родители… Она этого нетерпеливо ждала, но об ней никто не вспоминал… Нет, вспоминали-то очень и даже беспрестанно о ней говорили, но кликать к себе не кликали… Бедненькая!.. А она очень того желала и надеялась.
Часа через два Иван Семенович оставил Шпаков. Вышел же от них совершенно расстроен, смущен, огорчен, одним словом, с крайним отчаянием на лице. Но все еще мог увидеть Пазиньку, подошел к ней, обнял ее и сквозь слезы сказал:
– Друг мой! Родители твои не согласны… У них жестокие сердца… Но нет силы, которая бы нас разлучила… Ты будешь моею!..
И с сими словами поцеловал он ее так, как обыкновенно любовники целуются при расставании надолго…
– Так не успеешь же ты, развратник, в своем злом намерении, – раздался при таком поцелуе любящихся грозный голос раздраженного до чрезвычайности Кирилла Петровича, который вслед за Иваном Семеновичем вышел из «кабинета» и видел все действия и слышал слова его…
– Вон из нашего дома и не смей глаз к нам показывать, когда ты реши… – Тут Кирилл Петрович крепко закашлялся, гнев захватывал дух у него…
– Что это вы с собою, душечка, делаете? – кричала Фенна Степановна мужу. – Берегитесь, чтобы чего не приключилось. У вас же такая слабая натура! Совсем испортите свою комплекцию… Нуте его в болото!..
Кир. Петр. Да какой он дерзкий! Слышали вы, маточка, как он сказал, что его род ничем не хуже нашего?
Фенна Ст. А слышали вы, душечка, как он сказал Пазиньке, что у нас жестокие сердца?.. Это значит восставлять детей против родителей! Прекрасно! А пусть докажет, когда и над кем и какую жестокость мы сделали? Хоть сейчас умереть и будь я анафема проклята, когда против кого была жестока.
Кир. Петр. Да как он смел рассуждать, что богатство ничего не значит и что, хотя он беден, но так же благороден, как и я… Так же!.. Сравнял себя со Шпаками…
Фенна Ст. Вот вы, душечка, тратитесь и убыточитесь на дело с Тпрунькевичем об этих проклятых гусях; а лучше подайте на него, на этого офицера, жалобу, что он вас обругал…
Кир. Петр. Дело, дело. Вот приедет мой поверенный, Хвостик-Джмунтовский, я ему поручу сочинить прошение, как он обругал весь род мой, как при мне, отце, и при тебе, матери, целовал единородную дочь нашу против нашей воли…
Фенна Ст. И какие греховные слова говорил ей: нет-де такой силы, чтоб нас разлучили… Ах, он безбожник! А небесные силы куда он девал? У него нет ничего святого, он фармазон!..
Вот какое гонение восстало на Ивана Семеновича от тех людей, которые накануне еще любили его до того, что души в нем не слышали! И все это за то, что осмелился свататься за их дочь. Хорошо бы, если бы Иван Семенович, выслушавши благоразумные возражения Кирилла Петровича, что он беден, а в супружестве нужно равенство состояний, бедность же одного есть язва, вред общественный, будут дети и будет их много. Чем разделятся? Все будут недостаточные, и за это маленькое будут более питать любви к тому лицу из родителей, кто им доставил имение, а другого лица и уважать не будут. Это порча нравственности; что фамилия Ивана Семеновича и род его уже, конечно, ни почему не мог сравняться с фамилиею и родом Шпаков – древним, знаменитым, славным, как свидетельствуют выписки из архива Малороссийской коллегии. Дети, рожденные от такого неравного брака, понесут на себе пятно и унизят, посрамят знаменитость рода Шпаков. Хорошо бы, если бы Иван Семенович, выслушавши все это, неограниченно во всем сознался, извинился бы в своей дерзости и просил бы, забыв проступок, продолжать к нему прежние милости, а то куда! Начал опровергать благоразумные заключения Кирилла Петровича и настоятельно доказывать, что при супружестве не должно смотреть на имущество, что богатство – вздор (экой чудак!), что можно и малым быть довольну, что людей уважают не по богатству, а по внутренним достоинствам (настоящий фармазон). А когда дошло до рода Шпаков и Ивана Семеновича, так он, не обинуясь, сказал, что, может быть, род его важнее всех Шпаков и больше принес пользы… Тут Кирилл Петрович, будучи холерического темперамента, не мог уже выдержать – и кто бы выдержал? – попросил Ивана Семеновича оставить их, «поколе они не пригласят его паки». Конечно, это был отказ от дому, но отказ вежливый, пристойный, и Иван Семенович, хотя и крепко смущенный, но вышел учтиво – и все пошло бы со временем очень хорошо, по-прежнему, но он встретил Пазиньку, обнял ее, поцеловал и выговорил ужасные слова: «У родителей жестокие сердца» и «нет власти, могущей их разлучить». Идущие же за ним вслед Кирилл Петрович и Фенна Степановна все это видели и слышали!.. Весьма естественно, что Кирилл Петрович и сам по себе пришел в вящее холерическое раздражение, а тут и Фенна Степановна усилила его своими тонкими и справедливыми замечаниями насчет дерзких слов дерзкого Ивана Семеновича. Вот потому-то и отказали ему навсегда от дому. Бед ный Иван Семенович! Бедная Пелагея Кирилловна!
Кирилл Петрович, как сам свидетельствовал, был холерической комплекции. Это он, как известно, начитал в Брюсовом календаре и, поверив планету, под коею родился, нашел все совершеннейше справедливым. Следовательно, посердясь на Ивана Семеновича несколько часов, а много – день, наконец простил бы его и, взяв с него слово не целоваться более с Пазинькою и не произносить подобных дерзких слов, принял бы его в прежнюю ласку и убедил бы к тому Фенну Степановну. Все это было бы, я знаю, непременно, если бы Иван Семенович замолчал и предоставил бы времени уладить все. Но он не замолчал, не оставил дела, а принялся действовать.
Благоразумные и осторожные родители, проводив Ивана Семеновича, призвали к себе Пазиньку и, не подозревая, чтобы он ей говорил что-либо о замужестве и не предполагая никак, чтобы они имели свидание у пруда, где водятся утенки, не расспрашивали ее ни о чем, а только строго запретили, чтобы она уклонялась от всякой встречи с Иваном Семеновичем, не слушала бы слов его, если бы он паче чаяния вздумал говорить о чем.
– А целоваться – и сохрани тебя Бог! – промолвила Фенна Степановна. – Иное дело – против твоей воли, как поцеловал тебя Иван Семенович: тут ты не властна. Это было и со мною. Я еще была в девках, проходили через наше село легкоконцы, и к батиньке собралось офицеров тьма-тьмущая. Я боялась к ним и глаза показать. Сижу в своей горнице, как вот и вошел ко мне один офицер и говорит: «Ах, какая хорошенькая барышня! Поцелуй-де меня». Я чтобы отвернуться от него, а он меня и поцеловал, да раза три, и все насильно, да и пошел от меня «негляже». И кто он такой, я и по сей день не знаю, только помню, что очень красивый был…

