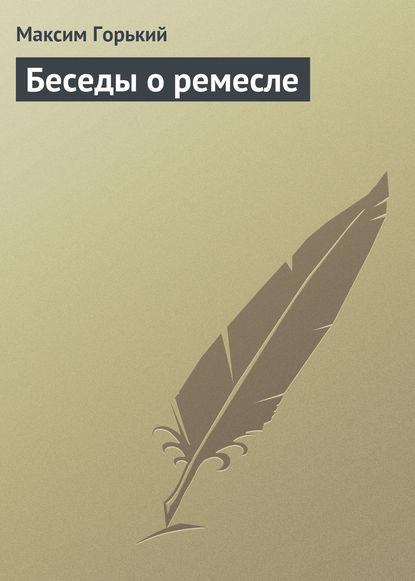 Полная версия
Полная версияБеседы о ремесле
– Заплачем.
– Ну, то-то.
Сын мясника Курепина, гимназист, спрашивает:
– Пап, за что царя убили?
– Не угодил кому-нибудь.
Но Курепин тотчас спохватился и строго-ласково сказал:
– Ты про это лет через десяток спроси, а теперь – забудь. Царь у нас – имеется.
Пётр Васильев, «сектант-беспоповец», известный в Заволжье «начётчик», сидя в лавке Головастикова, даёт купцам Гостиного двора урок «политграмоты». Он говорит, что дворяне всегда убивают царей, если цари пытаются нарушить права дворянства. Так они убили трёх, лучших: Петра Третьего, Павла и Александра Второго, всех именно за то, что они хотели ограничить права дворян в пользу купечества и крестьянства. О пользе крестьян он мыслил весьма своеобразно, ибо, говоря о «распутной» царице Екатерине, которую дворяне посадили на престол, убив её мужа, он крепко ругал царицу за то, что она «не посмела» признать за купечеством дворянское крепостное право на свободу и жизнь крестьян. Сам он был крестьянин.
В книге «Мои университеты» полицейский Никифорыч затейливо говорит о царе-«пауке», – эти слова действительно были сказаны им.
Все такие мнения и словечки я бережно закреплял в памяти, а иногда даже записывал их, так же, как это, очевидно, делал Дмитрий Лаврухин, автор замечательной книги «По следам героя»; книга эта может многому научить молодого литератора, если он хорошо подумает над нею.
«Политические» мысли хозяев особенно подчёркивало то обстоятельство, что художественная литература, по цензурным условиям, не воспроизводила эти мысли в их обнажённой, «бытовой» форме, а правде показаний литературы я верил. Только Щедрин-Салтыков превосходно улавливал политику в быте, но это был не тот быт, который я знал, и притом «эзоповский» – иносказательный – сердитый язык Салтыкова не всегда был понятен мне. Но, читая Глеба Успенского, я самовольно добавлял в речи изображённых им людей слова, пойманные мною в жизни.
Много потеряла наша литература оттого, что этот замечательный человек и талантливейший литератор жил слишком «волнуясь и спеша» и отдавал так много своих сил ядовитой «злобе дня» текущего, не заглядывая в завтрашний день.
Больше всего знаний о хозяевах дал мне 96 год. В этом году в Нижнем-Новгороде была Всероссийская выставка и заседал «Торгово-промышленный» съезд. В качестве корреспондента «Одесских новостей» и сотрудника «Нижегородского листка» я посещал заседания съезда, там обсуждались вопросы внешней торговли, таможенной и финансовой политики. Я видел там представителей крупной промышленности всей России, слышал их жестокие споры с «аграриями». Не всё в этих речах было попятно мне, но я чувствовал главное: это – женихи, они влюбились в богатую Россию, сватаются к ней и знают, что её необходимо развести с Николаем Романовым.
Съезд заседал в здании реального училища на углу Большой Покровки и Мышкина переулка. Я написал юмористический фельетон «Сватовство в Мышкином переулке», «Нижегородский листок» не напечатал его, я послал фельетон Маракуеву в «Одесские новости», там фельетон и пропал.
Заседали в «реальном» люди «первого класса», солиднейшие фабриканты, крупные помещики, учёные экономисты из министерства финансов, заседал знаменитейший химик Д. И. Менделеев, кажется – профессор Янжул и ещё какие-то профессора. Всё это для меня люди новые и уже не очень «нормальные», а с трещинкой: я слышал в их речах нечто дребезжащее, двусмысленное, может быть, это был только избыток красивой словесности, заимствованной некоторыми из членов съезда у интеллигенции во временное пользование и для взаимного очарования. Кое-кто говорил о страданиях народа, о разорении деревни, говорилось и о «разврате», который вносит в деревню фабрика, и на одном заседании какой-то толстоголовый человек читал басом стихи:
Удручённый ношей крестной,Всю тебя, земля родная,В рабском виде царь небесныйИсходил, благословляя.[13]Я знал, что это неверно, о пребывании Христа в России евангелие не говорит. Мне казалось, что большинство «представителей прессы» относится к съезду скептически и шумливо, вообще – несерьёзно. Я тоже усвоил это настроение.
Для меня интереснее и поучительнее было ходить по выставке вслед за мелким провинциальным промышленником и торгашом. Этот сорт людей явился на выставку в массе. Тучей синих, осенних мух они ползали, тыкались в стёкла павильонов и жужжали хотя и удивлённо, а по преимуществу неодобрительно. Этих я уже знал, «простые» их речи были мне знакомы и понятны. Основной, преобладающей темой их разговоров на выставке была забота о крестьянстве, о деревне. Это – естественно, они сами, в недалёком прошлом, были «мужиками» и гордились этим, потому что: «Русская земля мужику богом дана» и потому что они: «Крестьянская кость, да уж барским мясом обросла» (в сборнике пословиц Снегирева[14] вместо «барского» мяса кость обросла «собачьим»). В отделе мануфактуры эти «хозяева» соглашались, что полотна фабрикантов, например, Гивартовского, – очень хороши, но бабье, домотканное, – не хуже, а прочность, «носкость» его превышает фабричное полотно. И – затем: «Весь народ в тонкое-то полотно не оденешь, нет!» «Его, поди-ко, и для актрис не хватает». «За границу продают». «И хлеб туда и кожу». «Сало». «Скоро и нас будут туда продавать, в землекопы». «Н-да, шикуем». «А мужику – ни продать, ни купить нечего».
Я вспоминаю о том, что было тридцать четыре года тому назад, но совершенно чётко вижу перед собой бородатые лица хозяев псковских, вятских, сибирских и всяких других губерний и областей. Вижу их в машинном отделе. Они – удивлены – в этом нет сомнения, но они недовольны – это тоже ясно. Улыбаются растерянно, посмеиваются неохотно, хмурятся, вздыхают и даже как будто подавлены. Неизвестно почему в машинном отделе помещена немецкая типографская машина, – кажется, на ней предполагалось печатать издания выставки. Сухонький, остробородый старичок, с безжалостно весёлыми глазками рыжего цвета и с беспокойными руками, говорит усмехаясь: «Экого чёрта сгрохали! А к чему она?» Заведующий отделом объясняет: «Газеты печатать». «Газеты-и? Дерьмо-то? Какая же ей цена?» Услыхав цену, старик поправил картуз, поглядел на окружающих и, видя сочувственные улыбки, сказал: «Вот куда налоги-те с нас вбивают – в газеты! Ах ты…» У него не хватило храбрости, он поджал губы и отошёл прочь, скрипя новыми сапогами, за ним потянулись его единомышленники.
Этой группе предложено было подняться на привязном воздушном шаре. «Благодарствую, – сказал старик и спросил: – А ежели отвязать пузырь этот – может он до бога взлететь? Не может? Ну, так на кой же пёс в небе-то болтаться, как дерьмо в проруби?»
Почти каждый раз, бывая на выставке, я встречал такого, как этот старичок, организатора мышления и настроения «хозяев». Я совершенно уверен, что люди именно этого типа через восемь лет председательствовали в провинциальных отделах черносотенного «Союза русского народа». Но для фигуры Якова Маякина они всё-таки не давали мне достаточного количества материала.
В очерке «Бугров» «герой» очерка говорит:
«Маякин – примечательное лицо. Я вокруг себя подобного не видел, а – чувствую: такой человек должен быть».
Эти слова я напоминаю не потому, что их можно понять как похвалу мне, а потому, что они объективно ценны как доказательство правильности приёма, который я употреблял для того, чтобы из массы мелких наблюдений над «хозяевами» слепить более или менее цельную и «живую» фигуру хозяина средней величины.
Приём был прост: я приписал Якову Маякину кое-что от социальной философии Фридриха Ницше. В своё время кто-то из критиков заметил этот «подлог» и упрекнул меня в пристрастии к учению Ницше. Упрёк неосновательный, я был человеком «толпы», и «герои» Лаврова – Михайловского и Карлейля не увлекали меня, так же как не увлекала и «мораль господ», которую весьма красиво проповедовал Ницше.
Смысл социальной философии Ницше весьма прост: истинная цель жизни – создание людей высшего типа, «сверхчеловеков», существенно необходимым условием для этого является рабство; древний, эллинский мир достиг непревзойдённой высоты, потому что был основан на институте рабовладельчества; с той поры под влиянием христианского демократизма культурное развитие человечества всё понижалось и понижается, политическое и социальное воспитание рабочих масс не может помешать Европе вернуться к варварству, если она, Европа, не возвратится к восстановлению основ культуры древних греков и не отбросит в сторону «мораль рабов» – проповедь социального равенства. Надобно решиться признать, что люди всегда делились на меньшинство – сильных, которые могут позволить себе всё, и большинство – бессильных, которые существуют затем, чтобы безусловно подчиняться первым.
Эта философия человека, который кончил безумием, была подлинной философией «хозяев» и не являлась оригинальной, основы её были намечены ещё Платоном, на ней построены «Философские драмы» Ренана, она не чужда Мальтусу, – вообще это древнейшая философия, её цель – оправдание власти «хозяев», и они её никогда не забывают. У Ницше она была вызвана – можно думать – ростом германской социал-демократии; в наши дни она – любимый духовный корм фашистов.
Я познакомился с нею в 93 году от студентов ярославского лицея, исключённых из него. Двое или трое из них, так же как я, работали письмоводителями у адвокатов. Но ещё раньше, зимою 89–90 года, мой друг Н.3.Васильев переводил на русский язык лучшую книгу Ницше «Так сказал Заратустра» и рассказывал мне о Ницше, называя его философию «красивым цинизмом».
Я имел вполне законное основание приписать кое-какие черты древней философии хозяев русскому хозяину. «Классовая мораль» и «мораль господ» – интернациональны. Ницше проповедовал сильному: «Падающего толкни», это один из основных догматов «морали господ»; христианство Ницше называл «моралью рабов». Он указывал на вред христианства, которое якобы поддерживает «падающих», слабых, бесплодно истощая сильных.
Но, во-первых, падали не только слабые, а и сильные, причём падали они потому, что «хозяева» сбивали их с ног, – это я слишком хорошо знал.
Во-вторых: «хозяева» поддерживали слабых только тогда, когда слабые были совершенно безопасны – физически дряхлые, больные, нищие. Поддержка выражалась в устройстве больниц, богаделен, а для тех слабых, которые решались сопротивляться «закону и морали», строились тюрьмы. Я немало читал о том, как беспощадно сильные христиане городов боролись против сильных же христиан-феодалов, хозяев деревень. Как те и другие пожирали друг друга в своей среде. «История крестьянских войн в Германии» Циммермана[15] превосходно рассказала мне, как рыцари и бюргеры, объединясь, истребляли крестьян, громили «таборитов», которые пытались осуществлять на земле идею примитивного коммунизма, вычитанную ими в евангелиях. Наконец, я был несколько знаком с учением Маркса. «Мораль господ» была мне так же враждебна, как и «мораль рабов», у меня слагалась третья мораль: «Восстающего поддержи».
В очерке «О вреде философии» изображен мною мой друг и учитель Н.3.Васильев – человек, который ничего не внушал мне и только рассказывал и не стремился сделать меня похожим на него. Остальные учителя мои внушали мне то, что им нравилось и что «идеологически» устраивало их. Мне приходилось обороняться от насилия, и поэтому я не пользовался симпатиями учителей; те из них, которые ещё живы, до сей поры изредка и сердито напоминают мне о моей строптивости.
Антипатия их была весьма полезна мне: они спорили со мной почти как с равным; я говорю – почти, ибо они были «квалифицированы», прошли сквозь гимназии, семинарии, университеты, а я – сравнительно с ними – «чернорабочий», на недостаток «высшего» образования мне указывали всегда и ещё не перестали. Я – соглашаюсь: школьной дисциплины мышления у меня нет, это, конечно, недостаток серьёзный.
Но и некоторые учителя мои обнаружили в спорах со мной тоже серьёзный недостаток: они совмещали в себе обе системы морали: «мораль господ» и «мораль рабов»; первая внушалась им силою их высокоразвитого интеллекта, вторая – их волевым бессилием и преклонением перед действительностью. Попробовав действовать революционно, они «пострадали», дорога в «господа» была закрыта перед ними, это понизило их «волю к жизни» и вызвало настроение, которое я называю «анархизмом побеждённых». Анархизм этот отлично формулирован Достоевским в его «Записках из подполья»[16]. Достоевский, член кружка Буташевича-Петрашевского, пропагандиста социализма, тоже был «побеждённым», поплатился за интерес к социализму каторгой.
Далее: я много видел «бывших людей» в ночлежных домах, монастырях, на больших дорогах. Всё это были побеждённые в непосильной борьбе с «хозяевами», или собственной слабостью к мещанским «радостям жизни», или непомерным самолюбием своим.
Критика упрекала меня за то, что я будто бы «романтизировал босяков», возлагал на люмпенпролетариат какие-то неосновательные и несбыточные надежды и даже приписал им «ницшеанские настроения».
«Романтизировал»? Это едва ли так. Надежд не возлагал никаких, а что снабдил их, так же как Маякина, кое-чем от философии Ницше – этого я не стану отрицать. Но и не утверждаю, что в обоих случаях действовал сознательно, однако думаю, что приписывал бывшим людям анархизм «ницшеанства», «анархизм побеждённых», имея на это законнейшее право. Почему?
А потому, что «бывшие люди», которых жизнь вышвырнула из «нормальных» границ в ночлежки, в «шалманы», и некоторые группки «побеждённых» интеллигентов обладали совершенно ясными признаками психического сродства. Здесь я воспользовался правом литератора «домыслить» материал, и мне кажется, что жизнь вполне оправдала этот «приём ремесла». «Хозяин» Яков Маякин после первой революции 1905-6 годов стал «октябристом» и после Октября 17 года показал себя цинически обнажённым и беспощадным врагом трудового народа. Между «бывшими людьми» ночлежек и политиканствующими эмигрантами Варшавы, Праги, Берлина, Парижа я не вижу иного различия, кроме формально словесного. «Проходимец» Промтов и философствующий шулер Сатин всё ещё живы, но иначе одеты и сотрудничают в эмигрантской прессе, проповедуя «мораль господ» и всячески оправдывая их бытиё. Это – их профессия, служба. Роль прислуги господ удовлетворяет их. Из всего сказанного вовсе не следует заключать, что литератор обладает таинственной способностью «предвидения будущего», но следует, что литератор обязан хорошо знать всё, что творится вокруг него, знать действительность, в которой он живёт, и работу сил, которые двигают её; знание силы прошлого и настоящего позволяет – при помощи домысла – представить возможное будущее.
Недавно один начинающий литератор написал мне:
«Я вовсе не должен знать всё, да и никто не знает всего.»
Полагаю, что из этого литератора не выработается ничего путного. А вот недавно один из талантливейших наших писателей, Всеволод Иванов, отлично сказал в «Литературной газете» (между нами: она не очень литературна):
«Работа художника очень трудна и очень ответственна. Ещё более трудна и ещё более ответственна работа его читателей, реализм которых есть и будет реализмом победы.
Поощрение для художника необходимо, но ещё более нуждается он, чтобы поощрение это было внутренне нужно и полезно для него. Таким поощрением, мне кажется, было для нас – шести московских писателей – посещение Туркмении»,
то есть непосредственное соприкосновение с новой действительностью. Не знать – это равносильно: не развиваться, не двигаться. Всё в мире нашем познаётся в движении и по движению, всякая сила есть не что иное, как движение. Человек – не стоит, а становится, живёт в процессе «становления», на пути к развитию своих сил и качеств. В наши дни жизнь становится всё более бурной, развивает небывалую скорость смены явлений. Творческая энергия рабочего класса Союза Советов учит чрезвычайно многому и, между прочим, неоспоримо доказывает, что человечество давно уже ушло бы далеко из того болота грязи и крови, в котором оно безумно топчется, – если б средства самозащиты людей в их борьбе с природой, в борьбе за лучшие условия бытия создавались с такой беззаветной энергией и с такой быстротой, с какими их создаёт наш рабочий класс.
Никогда ещё жизнь не была так глубоко поучительна, а человек так интересен, как в наши дни, и никогда «передовой» человек не был до такой степени внутренно противоречив. Говоря о «передовом», я имею в виду не только партийца, коммуниста, но и тех беспартийных, которые увлечены свободой и грандиозным размахом социалистического строительства. «Противоречивость» – естественна, ибо люди живут на рубеже двух миров – мира разнообразных и непримиримых противоречий, который создан до них, и мира, который создаётся ими и в котором социально-экономические противоречия – основа всех других – будут уничтожены.
Критики жалуются, что герои наших дней отражаются в литературе недостаточно целостными, «живыми», что они всегда несколько топорны и деревянны, а некоторые из критиков утверждают, что «реализм» как будто не в силах дать яркий, полноценный портрет героя. Критик, по силе профессии своей, более или менее скептик. Он «тренируется» на поиски недостатков, и весьма часто он прикрывает свой скептицизм чисто головной «ортодоксальностью» попа. Это противоестественное сожительство качеств щуки и сыча создаёт большой словесный шум, но едва ли может служить к пользе молодых литераторов. Кроме того, в тоне отношения критиков к литераторам часто звучат совершенно неуместные и оскорбительные для литературной молодёжи «хозяйские» ноты, они меня заставляют думать: а свободны ли критики от «морали хозяев», не слишком ли высокого мнения они о своей гениальности?
Лично мне кажется, что «реализм» справился бы со своей нелёгкой задачей, если б он, рассматривая личность в процессе «становления» по пути от древнего мещанского и животного индивидуализма к социализму, изображал бы человека не только таким, каков он есть сегодня, но и таким, каков он должен быть – и будет – завтра.
Это не значит, что я советую «выдумывать» человека, а значит только, что я признаю за литератором право и даже считаю его обязанностью «домысливать» человека. Литератор должен выучиться прививать, приписывать единице наиболее характерные черты её класса, дурные и хорошие, те и другие вместе, – когда литератор хочет показать раздвоенную психику. Снова повторяю, нет надобности «выдумывать», потому что черты эти реально существуют, одни – как опухоли, бородавки, как «рудиментарные», отжившие органы организма, вроде червеобразного отростка слепой кишки, который любит вызывать болезнь «аппендицит», другие – как недавно открытые «органы внутренней секреции», которые, может быть, являются зародышами новых органов, вызванных к жизни биологической эволюцией организма и назначенных совершенно изменить его. Это, конечно, уже «фантазия», допущенная мною «шутки ради». Начинающие литераторы должны особенно крепко усвоить очень простую мысль: идеи не добываются из воздуха, как, например, азот, идеи создаются на земле, почва их – трудовая жизнь, материалом для них служит наблюдение, сравнение, изучение – в конце концов: факты, факты!
Необходимо знать фактическую историю культуры – историю развития классов, классовых противоречий и классовой борьбы. Правда и мудрость создаются внизу, в массах, а в верхних этажах жизни только её испарения, смешанные с запахами, чужеродными ей, и в большей своей части эти «умозрительные» идеологические испарения ставят целью себе смягчить, затушевать, исказить суровую, подлинную правду трудовой жизни.
Трудовой мир дожил до сознания необходимости революции. Задача литературы:
восстающего – поддержи,
– чем энергичнее поддержите его, тем скорее окончательно свалится падающий.
IIIНа предложенную тему: «Как и что преподавалось в кружках восьмидесятых годов» – я могу рассказать немного, потому что у меня не было времени для правильного посещения кружковых занятий. Но всё же некоторое отношение к ним я имел, в памяти кое-что осталось, и это я попробую изобразить. Вероятно, в ту пору на молодёжи моего типа особенно характерно и глубоко отражались противоречия литературы и жизни, книжной догмы и непосредственного опыта.
Впервые я очутился в «кружке», когда мне было лет пятнадцать. Случилось это так. В Нижнем, во время кулачного боя за Петропавловским кладбищем, я увидел, что один из бойцов нашей «стенки» отполз в сторону под забор «Лесного двора», хочет встать на ноги и – не может. Я помог ему. Морщась, охая, он сказал, что его ударили по ноге и, должно быть, нога сломана. Живёт он недалеко, на Ошаре, – не могу ли я проводить его до дома? Пошли. Круглолицый, с хорошим, очень ясным и ласковым взглядом девичьих глаз, он понравился мне. И одет он был «чисто»: в коротенькой суконной курточке, в котиковой шапке, в щегольских кожаных сапогах. Он назвал себя Владиславом, кажется – Добровольским или Доброклонским. Когда я заметил ему, что в кожаных сапогах на бой не ходят, он сердито ответил:
– Терпеть не могу валяных.
По лицу его видно было, что он испуган болью, готов заплакать и не может идти. Пришлось нести его на спине.
Я принёс его в комнату, где всё было необыкновенно и ново для меня: большая, очень светлая и парадная, как магазин, она была наполнена каким-то особенно тёплым и душистым воздухом; на полу лежал пёстрый, толстый ковёр, на стенах висели картины, в углу, на широком шкафе, – чучело филина с рыжими глазами; в шкафу множество серебряной и фарфоровой цветистой посуды. Явился большой усатый человек, заспанный, с растрёпанными волосами, потом прибежала худощавая невысокая и ловкая женщина с огромными глазами на бледном лице. Мальчугана положили на диван, отец отрезал бритвой голенище сапога, потом разрезал головку и, сняв её с ноги, густо спросил:
– Ну, что – легче?
Мальчуган капризно закричал:
– Чаю дайте!
Женщина, положив ему на ногу компресс, бинтовала её, удивляя меня своей немотой.
Владислав стонал, покрикивая:
– Осторожней!
А я очень жалел хороший, непоправимо испорченный сапог. Затем напоили меня вкуснейшим чаем с булочками розового теста, – кисло-сладкий вкус этих булочек я очень долго помнил. Прощаясь со мною, отец и сын сказали, чтоб я приходил к ним, – я это сделал в следующее воскресенье.
Оказалось, что нога Владислава не сломана, а только ушиблена ударом по щиколотке; он ходил с палкой, довольно легко поднялся по лестнице на чердак, в свою комнату, и там стал хвастаться книгами в красивых переплётах, показывая мне «Историю Наполеона» со множеством рисунков Ораса Берне; у него было очень много книг с картинками. Нахвалил «Физику» Гано и роман Каразина «В пороховом дыму», но когда я попросил дать мне эти книги почитать, он сказал:
– Нельзя, это – дорогие книги!
Сам он показался мне бесцветным и скучным, говорил почти непрерывно, но так жидко, что от его речи ничего не оставалось в памяти. И за всё время нашего краткого знакомства меня удивила только одна его сердитая жалоба на отца:
– Терпеть не могу этих дурацких боёв, а отец посылает, говорит, что это древняя русская забава и надо идти в ногу с народом – и чёрт знает, что ещё надо!
Он неприятно часто говорил: «Терпеть не могу…»
Я убедился, что в нём действительно есть что-то от барышни – набалованное, капризное, да и лицо его было приторно красиво, и улыбался он слащаво. Старше меня на три года, а ростом немного выше моего плеча. Учился в гимназии до шестого класса, потом целый год жил с отцом и мачехой за границей, а теперь готовился в юнкерское училище.
– Когда буду офицером – составлю заговор против царя, – сказал он, дымя папиросой, и, крепко стукнув палкой в пол, нахмурил вышитые тёмные брови. На эти его слова я не обратил внимания и вспомнил их долго спустя, когда жил в Казани.
В это второе свидание с ним он мне так не понравился, что я решил уйти и больше не приходить к нему. Но на лестнице тяжело затопали, зашумели, вошёл его отец, в куртке, расшитой толстыми шнурками, в чёсаных валенках выше колен, с янтарным мундштуком в зубах; его сопровождали высокий гимназист в блузе и в очках, ещё какой-то весёлый, франтоватый паренёк и черноволосая барышня с длинным, строгим лицом. Я встал, собираясь уходить, но отец Владислава угрюмо сказал:
– Куда ты? Вот – познакомься, посиди, послушай.
Он сел к столу, достал из кармана коробку с табаком и, свёртывая папиросу, загудел:
– А вы опять опоздали? Эх вы… А те не придут? Почему? Болен? Врёте, на коньках катается.
Так же угрюмо и гулко он спросил меня, читаю ли я книги и какие читал. Я назвал несколько книг.
– Дрянь, – сказал он. – Надобно, брат, читать не стишки, не романы, а серьёзные книги, вот что, брат!
Затем я услышал, что преступно сидеть на шее мужика, а надобно делать всё для того, чтобы мужику легче жилось. Я не чувствовал себя сидящим на чьей-то шее, мне уже казалось, что это моя шея служит седалищем разным более или менее неприятным людям, но мне было очень интересно слушать тяжёлый, упрекающий голос усатого человека с одутловатым, добродушным лицом, большим, бесформенным, как будто измятым носом и мутноватыми глазами, – они напоминали грустные глаза умной собаки. Говорил он очень просто и всё более живо, чмокал губами, дымились усы, широко открывал глаза и затем, прищуриваясь, щёлкал пальцами, дёргал себя за правый ус и, вытягивая шею, спрашивал:



