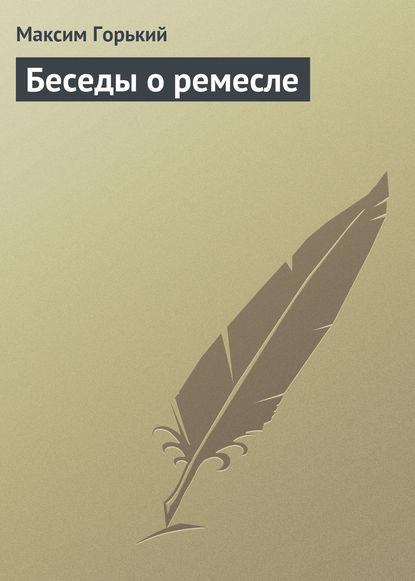 Полная версия
Полная версияБеседы о ремесле
– Этот ваш Пётр вовсе не великий, а сумасшедший, и очень жаль, что он прикончил Алексея, а не наоборот. Мужик же строится тысячу лет, а толку всё нет. Да-ссс…
Старичок весьма не нравился мне, но «он даёт понять себя», как сказал о нём первокурсник студент Музыкантский, юноша длинный, с длинными волосами и печальным лицом; он вскоре умер, кажется – застрелился. Гораздо труднее было понимать противников старичка, и не только я, но и Плетнев и другие знакомые студенты-первокурсники – Грейман, Комлев – жаловались друг другу на разноголосицу мнений среди интеллигенции.
Но всё-таки эта разноголосица давала мне кое-что существенное, я запоминал имена авторов, титулы книг, отыскивал их, читал, пытаясь объединить то, что знал и видел, с тем, что рассказывали книги. Не объединялось, – вероятно, потому, что количество непосредственных наблюдений жизни росло быстрее книжных знаний, а также и потому, что основная, «ведущая» идея литературы не освещала очень многих явлений действительности. В конце концов у меня и Плетнева с развитием интереса к литературе возникло недоверие к её показаниям.
Прочитав «Паутину» Наумова, Плетнев с восторгом сказал:
– Вот она, сказочная ширь русской натуры!
Но он же после очерка Помяловского «Поречане» задумчиво и печально проговорил:
– И тут такая же дикость, как в «Паутине».
Главное, что мы хотели и должны были понять, – это, конечно, мужик. Его вешала на шею нам литература, его взваливали на жидкие хребты наши руководители и воспитатели – и, как я сказал, мы приняли все основные догмы народничества за истину. Но нам было очень трудно определить, что у нас – вера и что – знание.
В те годы стоял «во главе угла», возбуждая особенно свирепые споры, Глеб Успенский. Одни утверждали, что он, показав, как сильна «власть земли», неопровержимо установил «правду-истину и правду-справедливость» теории народничества, другие кричали, что он – «изменник». Мы воспринимали истерическую лирику его рассказов о деревне эмоционально, как воспринимается музыка. Глеб Успенский будил в нас какое-то особенно тревожное и актуальное чувство; Грейман очень удачно определил его, рассказав, что после чтения книг Глеба Успенского хочется сделать что-нибудь решительное, как сделали это жители Брюсселя после первого представления оперы Мейербера «Пророк», – они пошли ко дворцу короля требовать конституции. Но в Казани не было ни оперы, ни короля, в кремле, во дворце, сидел губернатор, а мы уже знали, что губернаторы конституции не дают. Знали мы и то, что рядом со святыми мужиками Златовратского, Каронина и других живут вовсе не святые «подлиповцы» Решетникова[21], мужики Николая Успенского[22], что в «Растеряевой улице»[23] существуют безалаберные мастеровые, в Петербурге, на Охте, дикие «поречане»[24], в Сибири есть «купечески разнузданные» приисковые рабочие и что очень много дикого, пьяного народа живёт недалеко от нас – в Суконной слободе Казани.
– Надобно что-то делать, – твердил Плетнев, а я, при его помощи, начал готовиться в сельские учителя.
Грустное и очень памятное впечатление вызвал у нас приезжий из ссылки, седоватый человек с растрёпанной бородой, длинным костлявым лицом и горбатым носом, тоже как будто вырезанным из кости. Это было в квартире некоего Перимова, кажется – доктора, жарким летним вечером, а человек этот одет был в толстое, тёплое, но не потел, по крайней мере на лице его не было пота. В охотничьих, выше колен, сапогах, подвязанных под коленями ремнём, он имел такой измятый вид, точно сейчас только обсушился, пройдя по болотам сквозь многие ливни и бури. Непреклонным сухим голосом он внушительно читал нечто вроде акафиста Глебу Успенскому, Лаврову и Михайловскому. Доклад свой начал он с рассказа о неудачных попытках революционной пропаганды среди рабочих, о том, что рабочие давали много провокаторов, что народовольцев окончательно погубил не Дегаев, а рабочий Меркулов. Затем долго доказывал, что защитники необходимости развития фабрично-заводской промышленности в сущности своей – слуги купцов. Кончил он словами давно знакомыми: все честно мыслящие люди обязаны бороться за то, чтоб охранять и развивать самобытные основы крестьянского мира и бороться против людей, которые проповедуют, что мужик тоже должен вертеть колесо бездушной, машинной цивилизации.
Слушало его десятка два солидных людей и человек пять молодёжи. Когда он кончил, все долго и натужно молчали, покашливая, переглядываясь, а какой-то лысый человек в мундире с золочёными пуговицами встал, понюхал цветы на окне и боком, осторожно прошёл в дверь соседней комнаты. Неприятное молчание продолжалось минуты две, не меньше. Плетнев шепнул мне:
– Вот черти…
Человек в охотничьих сапогах сидел, глядя в стол, разбирая пальцами клочья своей бороды, затем он спросил:
– Ну, о чём же поговорим?
Хозяин квартиры предложил перейти в столовую, пить чай.
– Там и поговорим.
Туда вслед за ссыльным пошло человек пять-шесть, остальные разбрелись по домам. Мы тоже ушли.
– Свинство какое вышло, – сказал Плетнев. – Обидели человека. Видел, как он усмехнулся, когда пошёл за хозяином?
Я не видел этого, но чувствовал себя нехорошо: может быть, мне показалось, что люди молча отреклись от правды.
Через некоторое время, придя к Плетневу в дом его вотчима на Собачьем переулке, я заметил, что пальцы товарища густо окрашены лиловой краской.
– Не могу отмыть, – сказал он и сообщил, что ему поручено печатать прокламации на мимеографе. Я очень позавидовал ему. Но всё это уже рассказано мною в книжке «Мои университеты».
В Борисоглебске я встретил одного из последних народников и там впервые услышал новую для меня оценку крестьянства. Народником был провинциальный журналист Маненков-Старостин; он относился к мужику уже до смешного преувеличенно, говорил о деревне «коленопреклонённо», с таким крикливым пафосом, что слушатели его речей почти всегда и весьма безжалостно издевались над ним. Тонким, надорванным голосом, торопливо и взвизгивая, как пила на сучке, он говорил всё те же слова о «правде-истине» и «правде-справедливости», осуществить которые может только хлебопашец в его непосредственном общении с природой. Не помню кто, кажется В. Я. Алабышев, спросил его, усмехаясь:
– А мироед позволит осуществлять эти правды?
Тут выступила девица, которую я видел впервые; она задорно заговорила, что пора отказаться от иллюзии; в деревне, как везде, есть богатые и бедные, и что ещё не исследован вопрос – что такое кулак, мироед? Может быть, в наших условиях он прогрессивное явление, потому что накопляет капитал, строит фабрики и заводы.
Слова её вызвали сначала смех, затем буйный спор, но девица оказалась начитанной, храброй, и, хотя не только один Маненков кричал на неё, она, стоя у стены, держась за спинку стула и как бы защищаясь им от натиска раздражённых оппонентов, побледнев и сверкая глазами, тоже кричала, что народники пишут о деревне лампадным маслом.
– Это не литература, а елеопомазание! – задорно кричала она.
Самый молодой из несогласных с нею был, вероятно, лет на десять старше её; из людей помоложе на её сторону стал только моряк Мазин, кажется – разжалованный мичман. Но мне показалось, что он соглашается с нею не потому, что она была права, а потому, что красива.
На другой день она уехала в Царицын, вскоре была арестована там по делу казанского студента Федосеева. Лет через пять после этого её слова о кулаке как прогрессивном явлении были подробно развиты Циммерманом-Гвоздевым, он первый в марксистской литературе «заострил идею», доказывая в книге своей «Кулачество-ростовщичество»[25], что кулак, накопляя капитал, пролетаризируя деревню, развивая промышленность и торговлю, является фактором экономического прогресса. Циммерман, большой широкобородый человек, был похож на прусского солдата 70–71 годов, но народники высмеивали его так же, как девицу Соловьеву. Известно, что марксизм очень оживил народничество, – люди становятся сильнее, талантливей от сопротивления им. «Искра» ещё не сверкала, но трение основных противоречий русской жизни становилось напряжённее и сильней. И хотя всё ещё доказывалось, что основные силы, способные решительно изменить жизнь, заключены в деревне, но уже делались уступки в пользу города, в сторону рабочего класса, признавалось его значение.
Мои «взгляды» на ход жизни развивались медленно и трудно; это отчасти можно объяснить кочевой жизнью, обилием впечатлений, недостатком систематического образования и недостатком времени для самообразования. «Экономический прогресс» мало интересовал меня и даже противоречил моему пониманию прогресса социально-культурного, – в этом, конечно, сказывалась закваска народничества.
В развитие социально-культурного прогресса никак не вмещался мой хозяин Василий Семенов и вообще не вмещались хозяева. Из всех премудростей, которые слышал и читал я, «в память врезалась» особенно глубоко одна, сказанная Прудоном:
«Собственность есть кража».
Это было совершенно ясно для меня. И хотя я близко знал немало профессиональных воров, я видел, что они гораздо меньше собственники, видел, что «честные» хозяева всеми силами, неустанно стремятся утвердить истину Прудона и что в этом – весь смысл их жизни.
Европейскую литературу – в переводах – и русскую я знал уже «весьма удовлетворительно», но очень многое, восхищая меня красотой, было чуждо мне. Я долго не мог понять: зачем студент Раскольников убил старуху[26], и зачем русскому студенту подражал в этом деянии француз, «ученик» Поля Бурже? И почему в романе Эдуарда Рода «Смысл жизни» молодому человеку, который нигде не мог найти этого смысла, именно старушка указала его – в церкви? Все книги, которые я читал, сливались для меня в одну бесконечную книжищу, и мне казалось, что основная тема её именно поиски молодыми людьми смысла жизни, – может быть, правильнее сказать: места в жизни. Не понимал я очень многого, но всё же в картинах быта видел и сходства и различия между литературой иностранной и русской, видел, что и те и другие – не в пользу русской жизни, не лестны для неё.
В литературе я прежде всего искал, конечно, «героя», «сильную», «критически мыслящую личность» – и находил Обломова, Рудина и более или менее подобных им. В стороне от них одиноко проходил, усмехаясь и злорадствуя, герой Помяловского Череванин[27], «нигилист», рождённый в один год с Базаровым Тургенева, но гораздо более «совершенный» нигилист, чем Базаров.
Было трудно понять: почему литераторы изображают интеллигентов бесхарактерными, безвольными, в то время как сотни интеллигентов пошли «в народ» и многие уже попали в тюрьму, в ссылку; почему в литературе не нашли «отражения» люди процесса 193-х, пропагандисты на фабриках и «народовольцы», которым никак нельзя отказать в наличии характера и силы воли? Казалось, что литература обижает, обесцвечивает жизнь. В памяти оставались какие-то покаянные, усмешливые и унылые рассказы: «Гамлеты – пара на грош»[28] – забыл автора, рассказ напечатан в одном из журналов Л. Оболенского – «Свет», «Мысль» или «Русское богатство», – «Гамлет Щигровского уезда»[29], «Записки ни павы, ни вороны». Пётр Боборыкин напечатал рассказ «Поумнел», но было принято не верить Боборыкину. Я – верил ему, находя в его книгах богатый бытовой материал. Остались в памяти рассказы В. В. Берви-Флеровского «Галатов», «Философия Стеши»; автора я знал лично, и было как-то неловко, что этот высокий, суровый, нетерпимый, со всеми не согласный старик, автор «Азбуки социальных наук» и первой русской книги о «положении рабочего класса», мог сочинить такие бесцветные, надуманные вещи. Я видел в жизни десятки ярких, богато одарённых, отлично талантливых людей, а в литературе – «зеркале жизни» – они не отражались или отражались настолько тускло, что я не замечал их. Но у Лескова, неутомимого охотника за своеобразным, оригинальным человеком, такие люди были, хотя они и не так одеты, как – на мой взгляд – следовало бы одеть их. Вместе с восхищением красотами образа и слова меня всё более тревожило чувство смутного недоверия к литературе.
Я снова и внимательно перечитал всю литературу шестидесятых – семидесятых годов. Она разделилась предо мною на два ряда: в одном – озлобленный и грубый «натуралист» Николай Успенский, мрачный Решетников «Подлиповцев» и «Николы Знаменского», – романы его я «терпеть не мог»; Левитов – «Нравы московских закоулков» и те его рассказы, в которых он не очень злоупотребляет хмельной и многословной лирикой; Воронов, Наумов, Нефедов, осторожный и скромный скептик Слепцов. Этот ряд возглавлял талантливый и суровый реалист Помяловский с его очерками «бурсы»[30], из которой вышло так много литераторов, учёных, вышел и сам Помяловский и написал «Мещанское счастье», повесть, значение которой недостаточно оценено.
Я чувствовал, что эти разнообразно и размашисто талантливые люди, сурово и поспешно рассказывая тяжёлую правду жизни, предъявляют мне какое-то неясное для меня требование.
Во втором ряду: сладкогласный «обманщик» Златовратский, – обманщиком его называл нечаевец Орлов; Каронин-Петропавловский его первых рассказов о Миняях и Митяях[31], унылый Засодимский, Бажин, Мих. Михайлов, Мамин-Сибиряк, даже Гр. Данилевский с его плохими романами «Беглые в Новороссии», «Беглые воротились», – в этом ряду и многие другие, чьи имена забыты не только мною одним.
Этот ряд – для меня – возглавлял и покрывал Глеб Успенский. Казалось, что он вошёл в литературу раньше всех писателей этого ряда и все они шли или от него, или за ним, говорили его голосом, только не так горячо и страстно, всегда тоном-двумя ниже, – говорили всё о той же «божьей правде», которая свела Успенского с ума.
Глеба Успенского я читал так же, как некоторые – по их рассказам – читают Достоевского: изумляясь, раздражаясь, чувствуя, что автор «одолевает» меня, отталкиваясь от него. В «божью правду» Успенского я не мог верить, но трепет его гнева и отвращения пред «повсеместным душегубством» ощущался мною так же, как – читая Достоевского – ощущаешь его неизбывный страх перед тёмной глубиною его же собственной «души». Я в чём-то соглашался с Глебом Успенским и чему-то не верил в его истерических криках о спешной необходимости «слиться с условиями крестьянской жизни», найти себе в ней место; меня не могли устрашать угрозы его: «Горько будет дело интеллигента в том случае, ежели шестьдесят миллионов вдруг, по щучьему веленью, возьмут да справятся сами собой».
Слишком ясно было, что «взять» некому, да и «нечего взять», – я уже знал, что деревня с поразительной быстротой хирела, нарождая Разуваевых и Колупаевых[32], кулачество пышно росло и цвело, умножая «душегубство», создавая «губошлёпов». Места себе «в крестьянской жизни» я не мог получить, инспектор народных училищ Малиновский определённо заявил, что я не буду допущен к экзаменам «по причинам, не от него зависящим».
Критика, стараясь поставить меня как писателя в определённый угол, указывала на мою зависимость от целого ряда влияний, начиная с «Декамерона»[33], Ницше и кончая уже не помню кем. Разрешу себе указать, что Помяловский-Череванин уже скончался, когда Ницше ещё не начинал философствовать. Я думаю, что на моё отношение к жизни влияли – каждый по-своему – три писателя: Помяловский, Глеб Успенский и Лесков.
Возможно, что Помяловский «влиял» на меня сильнее Лескова и Успенского. Он первый решительно встал против старой, дворянской литературной церкви, первый решительно указал литераторам на необходимость «изучать всех участников жизни» – нищих, пожарных, лавочников, бродяг и прочих.
Сито мещанской жизни не так часто отсевает отруби, как часто отбрасывает прочь крупных людей, и надобно было весьма прилежно изучать причины процесса «деклассации», ибо эти причины красноречивее всего говорят о ненормальном кровообращении мещанского общества, о его застарелых, хронических болезнях. Я думаю, что именно под влиянием этих трёх писателей решено было мною самому пойти посмотреть, как живёт «народ».
Пошёл и увидел дикий хаос, буйное кипение бесчисленных, мелких и крупных, совершенно непримиримых противоречий; в массе своей они создавали чудовищную трагикомедию, – роль главной героини в ней играла жадность собственника.
«Трагикомедия» – не описка, так и читать: трагикомедия. Трагедия – это слишком высоко для мира, где почти все «страдания» возникают в борьбе за право собственности на человека, на вещи и где под лозунгом «борьбы за свободу» часто борются за расширение «права» эксплуатации чужого труда. Мещанин, даже когда он «скупой рыцарь», всё-таки не трагичен, ибо страсть к монете, к золоту – уродлива и смешна. Вообще в старом, мещанском мире смешного столько же, сколько мрачного. Плюшкин и отец Гранде Бальзака – нимало не трагичны, они только отвратительны. Я не вижу – чем, кроме количества творимого зла, отличается Плюшкин от мещан-миллионеров, неизлечимо больных страстью к наживе. Трагедия совершенно исключает пошлость, неизбежно присущую мелким, мещанским драмам, которые так обильно пачкают жизнь. Когда в зоологическом парке дерутся обезьяны – разве это трагедия? Мы только что вступаем в эпоху подлинных, глубочайших и небывалых трагедий, их творят не Эсхилы, Софоклы, Эврипиды и Шекспиры, а новый герой истории – пролетариат всех стран в лице его авангарда, рабочего класса Союза Советов; пролетариат, который дорос до сознания необходимости уничтожить основную причину всего зла и горя жизни – частную собственность, дорос до сознания необходимости вырваться из тяжёлого, позорного плена капиталистов.
Само собою ясно, что я «забежал вперёд» и что хотя ненависть к драмам и страданиям мещанского мира зародилась у меня ещё в юности, но, разумеется, оформилась она гораздо позднее и оформлялась медленно по причине моего недоверия к словам. Слишком обильное количество людей, слова которых не совпадали с делом, видел я, а в то время, о котором я веду рассказ, мои «впечатления бытия», находясь в состоянии хаотическом, весьма мучительно отягощали меня, но я всё-таки не торопился уложить их в мешок той или иной догмы. О том, что противоречия жизни должны быть развиты до конца, – в то время говорили невнятно. Слова Владимира Ильича не увлекали меня и не помогали «разобраться в самом себе», я стал более или менее понимать Ленина после того, как лично познакомился с ним и услыхал его речи на съезде в Лондоне[34]. А за десяток лет до этого мне пришлось заниматься «самопознанием», что – кстати скажу – крайне трудно для человека «деклассированного», каким я был.
В ту пору «учителя жизни» предлагали «идти на выучку к капитализму», но я уже считал себя достаточно выученным. Тогда загибали истину таким кренделем, как, например, утверждение, что «кулачество-ростовщичество» – фактор экономически прогрессивный. В те годы читалась брошюра одного из членов исполнительного комитета раскрошенной и уничтоженной партии террористов, – в этой брошюре Лев Тихомиров рассказывал, «почему он перестал быть революционером».
Я очень много видел людей, которые «перестали быть революционерами», они не возбуждали симпатии, и в них наблюдалось мною нечто общее с «бывшими людьми» разных сословий и профессий. Уже года три-четыре я печатал рассказы в газетах, нередко меня похваливали за них, но похвалы не увлекали, и профессиональным литератором я себя не воображал.
Усердный и внимательный читатель, я присматривался и прислушивался к читателям, среди которых жил, – присматривался, стараясь понять: чего они ищут в книгах, что прежде всего хотят найти? Это было не совсем ясно, потому что «вкусы» быстро менялись и потому что «каждый молодец на свой образец» оценивал значение книги. Недавно я убедился, что наблюдение за вкусами читателя было установлено мною ещё в юности, в Казани; убедила меня в этом тетрадка моих – той поры – записок, присланная мне одним знакомым, бывшим студентом духовной академии; прислал он мне эту сорокалетнюю тетрадку с доброй целью уличить меня в малограмотности, чего и достиг: двадцать три ветхих страницы, исписанные моим почерком и снабжённые «критическими» примечаниями по моему адресу, а также – не совсем кстати – и по адресам некоторых молодых советских писателей, – эти страницы действительно уличают меня в том, что восемнадцати – двадцати лет я, наверное, гораздо более ловко работал топором, а не пером. Тетрадка неинтересная, сплошь наполнена выписками из разных книг, топорными попытками писать стихи и описанием – в прозе – рассвета на «Устье», на берегу Волги, у слияния с нею реки Казанки. Но между этой чепухой есть описание лекции или доклада некоего Анатолия Кремлева, – этот человек изучал Шекспира, толковал Шекспира, играл Шекспира на сцене и читал лекции о Шекспире и вообще об искусстве. Был он, Кремлев, «человек небольшой, ловкий, щёголь, звонкий, точно колокольчик, подпрыгивает, руками машет зря», – так записано мною чернилами по карандашу. Далее следует: «Чернышевского не любит. И Толстого. И Успенского. Интеллигентам платить народу не за что, голова рукам не платит, руки-ноги работают на неё, это закон природы. Литература для отдыха души и всё другое – музыка, живопись. В уродстве есть красота – врёт. Писатель не знает ни грешника, ни праведников. Богатство нищих, нищета богатых. Нищие – Алексей божий человек, святые, Иванушка-дурачок. Богатые – «Мёртвые души». Литература живёт сама по себе, независимо, отражает всё, как оно есть. Не так, как Чернышевский в «Эстетических отношениях»[35]. Не понимаю – как. Слушали смирно, как попа проповедь в церкви».
Наиболее ценными словами этой корявой записки я считаю два: «слушали смирно». На протяжении с конца восьмидесятых и до начала девятисотых годов я тоже, кажется, все споры о литературе «слушал смирно». Это не значит, что они не волновали меня, – литератора не могут не мучить вопросы: что такое литература, и для чего она? Живёт сама по себе? Но я уже видел: в мире нет ничего, что существовало бы само по себе и само для себя, всё существует для чего-то, так или иначе зависимо, связано, спутано.
«Отдых души»? Крайне трудно вообразить существо, «душа» коего отдыхала бы, когда существо это читает «Прометея», «Гамлета», «Дон-Кихота», «Фауста», книги Бальзака и Диккенса, Толстого и Стендаля, и Достоевского, Успенского, Чехова, и вообще те книги, которые предстают пред нами как изумительно обработанные в образе и слове сгустки мысли, чувства, крови и горьких жгучих слёз мира сего. «Зеркало жизни»? Зеркала находятся в домах для того, чтобы перед ними люди причёсывались «к лицу», рассматривали морщины и прыщики на носах и коже щёк, «любовались своей красотой». Пассивную роль я считал недостойной литературы, мне известно было: если «рожа – крива, пеняют на зеркала», и я уже догадывался: «рожи кривы» не потому, что желают быть кривыми, а оттого, что в жизни действует некая всех и всё уродующая сила, и «отражать» нужно её, а не искривлённых ею. Но как это сделать, не показывая уродов, не находя красавцев?
Я писал различные весьма сумбурные вещи: «Читатель», «О писателе, который зазнался», «О чиже, который лгал», «О чорте», – писал очень много, а ещё больше рвал и сжигал в печке. Известно, что в конце концов я нашёл какую-то свою тропу.
Бывает – и нередко, – что молодые люди из среды начинающих литераторов пишут мне, жалуются: «нет времени для творчества», «трудно жить».
Должен признаться, что жалобы эти не вызывают у меня сочувствия, а словечко «творчество» даже несколько смешит, – слишком оно громко и как будто не совсем у места в наше суровое, «ударное» время, перед лицом рабочей массы, которая, не щадя сил, не жалуясь, действительно творит нечто неизмеримо более грандиозное и важное для всего человечества, чем любой, даже талантливый стишок или рассказец.
Разумеется, «на стройке» – жить трудно: одновременно идёт работа разрушения и созидания; шум, треск, крик; под ногами – жалкий и злой мусор старины, в воздухе – её отравляющая пыль. Всё вокруг изменяется с невероятной, сказочной быстротой, и нет возможности сосредоточиться на поисках красивого слова, точного и яркого образа, некогда почесать затылок, потереть лоб, поковырять в носу, придумывая звонкую и удачную рифму. Всё это – так.
Но ещё совсем недавно, лет тринадцать тому назад, юношеству жилось несравненно хуже, чем теперь, а лет за тридцать – за сорок до наших дней – и совсем нехорошо.
Конечно, это не утешение, – но я и не собираюсь утешать огорчённых «неудобством» и шумом социалистического строительства. Меня спросили: как жилось юношеству в прошлом? Я и рассказываю об этом что знаю, будучи уверен, что прошлое необходимо знать и что хорошее знание прошлого весьма полезно для современного юношества.
Я начал жить в то время, когда мещанский мир был крепок, плотен, усиленно жирел на крови «освобождённого» крестьянства, а оно щедро пополняло армию мещан из своей среды. Мещанин жирел и цепко держал свою молодёжь в густой тине «традиции» – вековых предрассудков, предубеждений, суеверий. Двуглавый орёл самодержавия был не только гербом государства, но птичкой весьма живой и злобно деятельной. И был жив бог, олицетворённый солидной армией попов; были города, в которых 10 тысяч жителей содержали десяток церквей, два монастыря и – только две школы. Школа действовала в тесном единении с церковью, правительственный педагог был таким же «охранителем традиций» мещанства, как поп. Строго наблюдалось, чтоб физика, химия и вообще науки о явлениях природы не противостояли закону божию, учению библии и чтоб разум не противоречил вере, основанной на «страхе божием». Церковность действовала на людей подобно туману и угару. Праздники, крестные ходы, «чудотворные» иконы, крестины, свадьбы, похороны и всё, чем влияла церковь на воображение людей, чем она опьяняла разум, – всё это играло гораздо более значительную роль в процессе «угашения разума», в деле борьбы с критическою мыслью, – играло большую роль, чем принято думать. Человек, даже когда он мещанин «до мозга костей», всё-таки падок на красоту, жажда красоты – «уклон» здоровый, в основе этой жажды заложено биологическое стремление к совершенству форм, – в церкви была и есть – красота, ядовитость которой искусно прикрыта отличнейшей музыкой, живописью, ослепительным блеском золота; бога своего мещане любили видеть богатым. Литература не только не могла активно, критически «отражать» консервативное и отравляющее влияние церкви, но и не хотела этого; а некоторые литераторы изображали работу церкви в красках соблазнительных. Изображая по преимуществу жизнь столиц, дворянских усадеб и деревни, литература не уделяла внимания жизни и быту мелкого мещанства – огромному большинству обывателей провинции, а именно там, в провинции, в глухих углах разыгрывались наиболее жуткие драмы «отцов и детей».



