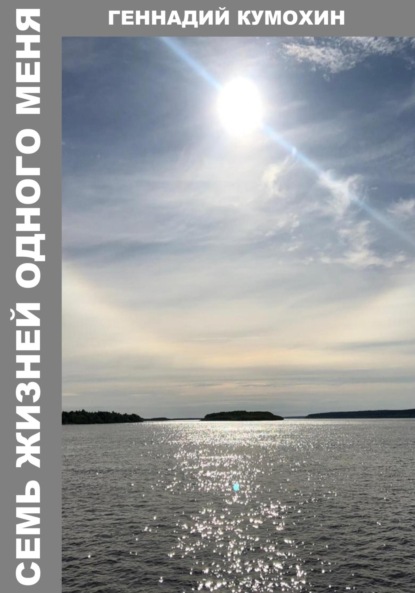
Полная версия:
Семь жизней одного меня
– Змея!
Дрожащими руками я развязал и откинул дверцу палатки. Что тут творилось! Буквально за пару часов наш полуостров превратился в крохотный островок, вокруг которого бушевала черная вода. А этот островок кишел огромными гадами. Их было множество, а может быть, мне это только показалось. Но весь остаток ночи мы больше не спали, а вооружившись палками, отгоняли от себя многочисленных обитателей этих мест, которые тоже, видимо, были не в восторге от нашего соседства.
Уже намного позже, когда мы переехали на Днепр, я узнал, что на Кременчугской ГЭС по ночам обычно открывали дополнительный сток, и уровень воды поднимался на метр, а то и больше. Поэтому наш мысок по ночам превращался в остров.
На вырост
Я совершенно отчетливо помню, когда возникло у меня ощущение еще не взрослости, нет, скорее, просто не детскости. Ощущение того, что я уже не отделен непреодолимой преградой от проходящих мимо меня больших людей. Ощущение того, что я уже один из них, принадлежу к ним, и теперь с каждым годом буду все больше сливаться с ними – острое, похожее на крик, ощущение.
Мы стояли на прямоугольной площадке большого, несравнимого с размерами протекающей под ним речушки, каменного моста. Набережная, очевидно, тоже строилась на вырост – от ее высоких, выложенных неотесанным камнем стен до воды было еще много метров твердого глинистого берега. Рядом с мостом, совсем близко от края в стену были вмурованы два огромных железных кольца. Иногда я представлял себе, что когда-то вода в Латорице доходила до этих колец, и к ним пришвартовывались корабли.
Мы стояли на мосту втроем: Вася Мокан, Володя Бойко и я. Не скрываясь, курили и заглядывались на проходящих мимо девушек. Разговор постоянно возвращался к женскому полу. Мокан и Бойко хвастались своими «успехами» в этом вопросе. И одному только мне рассказывать одноклассникам было нечего.
Был конец мая, учебный год только что закончился, но мы еще ходили в школу, отрабатывая положенные после окончания седьмого класса десять дней практики – чинили стулья и парты и красили их остро пахнущей зеленой и коричневой масляной краской. Шел первый день практики, и мы были очень довольны своим рабочим видом: пятнами краски на старых брюках и рубашках.
На средине моста столпилось несколько ребят постарше нас. Вася был знаком с ними, и мы подошли ближе. Один из парней перелез через парапет и ловил рыбу прямо с каменного быка. Я проследил движение тоненькой паутинки лески от зажатого в его кулаке конца до подрагивающего на крючке майского жука и изумился огромности плавающих рядом с ним рыб. Васька поговорил о чем-то вполголоса по-мадьярски с одним из ребят и сказал, повернувшись к нам:
– Пэцан сегодня не берет, а вчера Пишты взял здесь вот такого, – он ударил ребром ладони по бицепсу руки гораздо выше локтя.
На следующий день в горах прошел дождь. Вода в Латорице поднялась и сделалась желто-коричневой. Крохотные бурунчики крутились за покачивающимися от быстрого течения кустами тальника. Обычно они располагались в глубине пляжа. А сегодня, придя сюда после практики, мы выжимали за ними трусы, дрожа от холода и стоя по колено в воде. На мосту кроме нас никого не было. Не смотря на подъем реки до начала каменной стены оставалось еще много места. А пытаться ловить голавлей в такой воде, видимо, никому не приходило в голову.
Мы уезжаем
Итак, мы уезжаем. Все было решено чуть ли не за день. Казалось, только вчера мама вернулась из своей поездки по Днепру. В приподнятом настроении она рассказывала о своем родном городе Запорожье и о Днепре, а потом, как бы между прочим, о том, что увидела она ранним утром на пароходе, возвращаясь в Киев
– Понимаешь, он стоял на горе, освещенный солнцем, весь белый, как будто целиком вылепленный из мела, – с восторгом описывала она каким привиделся ей городок на берегу искусственного моря, в котором мы могли бы жить, если бы не передумали тогда, во время нашего визита к отцу на стройку.
Но с тех пор прошло целых четыре года – и вот, он вырос, белый город посреди степи.
– Так в чем же дело? – так, кажется, сказал тогда отец, и они решили:
– Мы уезжаем!
А дальше все завертелось и решалось очень быстро. Отец и мама быстро уволились и в последующие две недели, отрабатывая положенные по закону рабочие дни, решали свои проблемы, среди которых главной была: отсутствие денег. Мои родители никогда не старались отложить «на черный день», а то немногое, что оставалось, тут же уходило на какие-нибудь непредвиденные расходы. Вот и сейчас все деньги были израсходованы на мамин отпуск.
И тут маме пришла в голову, как ей показалось, прекрасная идея. Перед тем, как вселиться в нашу квартиру, состоящую из половины небольшого одноэтажного дома, мы все лето прожили во временной пристройке в глубине двора, а потом в частном порядке доплатили прежним хозяевам, чтобы те быстрее достроили свой дом, расположенный как раз напротив нашего.
– А почему бы нам не получить эти деньги обратно с Инвалида? – подумала мама. Неприятный тип, по прозвищу «Инвалид», уже несколько лет жил со своей семьей в том же домике, правда уже несколько подновленном и превращенном в постоянное коммунальное жилье. Инвалид с радостью согласился, и, таким образом, средства, необходимые для переезда, были получены.
Как только приехала машина с контейнером, в который загружались наши скромные пожитки, Инвалид с триумфом начал перетаскивать свое имущество.
Потом, через много лет, во время поездки моей уже взрослой сестры в город своего детства, мы узнаем, чем завершилась эта операция. Как оказалось, в отличие от нас, Инвалид, кажется, даже не был очередником на получение жилья. Поэтому его переселение было расценено местной властью, как самоуправство, и он с милицией был выставлен из нашей бывшей квартиры, а в нее вселились очередники – семья моей бывшей одноклассницы Жени Рубцовой, которая уже много лет ютилась в убогом подвальчике на соседней улице. Ее отец – колченогий сапожник имел троих детей: Мусю, Петю и Женю.
Моя подготовка к отъезду выглядела более простой, но тоже не лишенной некоторой доли авантюризма. С прошлой весны мне нравилась одноклассница Томочка Шпигель. Внешне моя симпатия проявлялась только в том, что я на уроках часто на нее поглядывал. Даже провожать ее со школы домой, идя следом за девочкой, мне как-то не приходило в голову. Возможно потому, что Шпигели жили недалеко от реки, то есть совсем в другом конце города.
Накануне отъезда написал девочке записку, которую передал почему-то не ей, а другому своему однокласснику с просьбой вручить ее сразу после моего отъезда. Как сейчас помню содержание этой записки. В ней говорилось, что я пришлю письмо с объяснением своих чувств. Словом, тараканов в моей голове было тоже предостаточно. Письмо это я, конечно, не написал, потому что не вспоминал о существовании ни Томы, ни других своих одноклассников, едва только поезд дал прощальный гудок.
Отправив все свои вещи товарным поездом, и, сделавшись, таким образом, совершенно бездомными, мы еще пару раз ночевали у приятелей мамы и только потом отправились в дорогу сами.
И вот, мы едем на поезде в купе, и в последний раз я смотрю, как за окном разгорается пожар осенних лесов. Было начало октября 1962 года. Осень в Мукачево еще не начиналась, а здесь, в горах она была, что называется, в самом разгаре.
Как завороженные мы следили за тем, как леса, еще зеленые в долине, по мере подъема к перевалу вдруг загорались холодным огнем кроваво-красных рябин и кленов, желтели листвой буков и грабов и остужались темной зеленью высокогорных хвойных лесов.
Два паровозика в начале и в конце нашего состава, натужно дымя, тащили нас через перевал в новую, еще неизведанную жизнь.
Я тогда даже не догадывался, что на самом деле они увозят меня из детства.
Юность
К моей юности
Только надо ль жалеть эту нервную блажь,
Этот стон, эту песнь, этот май?
И ранимость, как горлинку с рук своих,
Отвращение к пошлости до тошноты.
И струною натянутой – только тронь,
Предвкушение вечности, вечную новь?
То, что прожито – прожито. Было – прошло.
Память к прошлому классною черной доской.
Кто-то маленький – маленький белым мелком
Там рисует каракули … ни о чем.
На пристани
В то утро меня разбудил плеск воды.
Странные непривычные ощущения: аромат пресной воды, смешанный с запахом просмоленного дерева, резкая прохлада утреннего воздуха, едва уловимое покачивание, какое бывает, когда под ногами отсутствует твердая поверхность, и солнечный свет сквозь оконные шторки дебаркадера.
Я открыл глаза и сразу все вспомнил: последний вечерний рейс «Ракеты» – корабля на подводных крыльях и надпись на причале «Мисто Хрущов». Уже темнело, а мы стояли, как неприкаянные, с чемоданами, сумками и не знали, куда податься.
Выручила мама. Она вступила в переговоры с дежурной – толстой теткой в синем халате и красной повязкой на рукаве.
Та вошла в наше положение:
– Ой, лишенько, та куди ж ви з двома дитинами на ничь глядючи? А що, никого знайомих нема?
– Нет, совершенно никого, – заверила мама и принялась рассказывать, что месяц назад она проплывала на «Ракете» по Днепру, увидела этот город и моментально в него влюбилась. Рассказ, видимо, впечатлил дежурную, и нам разрешили переночевать на дебаркадере.
Все еще спали, и у меня было немного времени, чтобы привыкнуть к новым обстоятельствам. Я натянул тонкое байковое одеяльце и снова зажмурился.
Итак, для всей нашей семьи начиналась новая жизнь.
Для моих родителей. Для моей десятилетней сестры. И для меня – четырнадцатилетнего подростка. Трое из нас уже никогда отсюда не уедут.
И только я окончу школу, поеду поступать в институт и уже надолго здесь не задержусь. Но годы, прожитые здесь – это незабываемые годы моей юности.
Три года назад на Днепре была сдана в эксплуатацию Кременчугская ГЭС, а на берегу Кременчугского водохранилища построен небольшой городок.
Когда заполнялось водохранилище, под водой оказались самые плодородные земли, десятки сел и находящийся поблизости город – Новогеоргиевск. Однако природа не преминула отомстить за такое насилие. Как и во всех подобного рода водохранилищах, летом вода в них становилась сине-зеленой от одноименных водорослей и весьма дурно пахла. Для желающих искупаться оставалось надеяться только на благоприятный ветер, который мог отнести от берега этот жуткий кисель.
Новый город строился на холмах, протянувшихся цепочкой, то опускаясь, то поднимаясь вдоль рукотворного моря.
Ближайший к ГЭС район назывался «Верх».
В отличие от «Низа», который образовался из старого казацкого села Табурищи и был действительно гораздо ниже части нового города на холме. Дальше по холму располагался парк с высаженными соснами и вольно растущими белыми акациями.
А за ним другой район – «Спецстрой». Здесь предполагалось строить корпуса специального металлургического завода – отсюда и название.
А дальше через большой пустырь располагался еще один район, который назывался «Новый город», хотя он состоял, в основном, так же, как и «Низ», из одноэтажных домов, и на город походил мало.
От пристани до улицы Ленина, как было принято в то время, центральной, было рукой подать. Кроме Дворца Культуры, тогда еще не достроенного, и здания Райсовета, все дома были, как под линеечку, трех и четырехэтажные, сложенные из светлого силикатного кирпича, так что с моря город действительно выглядел белым.
Этому городу с самого начала была предназначена счастливая судьба. Кем предназначена? Страной, которая его создавала.
И так оно и было, по крайней мере, до тех пор, пока существовала сама страна – Советский Союз. Гидроэлектростанция давала дешевую энергию, бывшие строители ГЭС и их дети, и дети их детей должны были стать квалифицированными кадрами.
Страна на десятилетия запланировала работу нового энергоемкого производства. Строить его начали сразу после открытия города – на Спецстрое. И назвали его «Завод чистых металлов». Точнее, на Спецстрое открыли только один цех. А потом построили новые корпуса завода в километрах пяти от города на Ревовке – все-таки производство здесь было вредным. Зато и платили рабочим не только за показатели, но и за вредность – много, как тогда казалось.
Впереди его ожидали, по крайней мере, двадцать пять «тучных лет».
Мы едва подошли к ближайшему гастроному, как увидели толпу людей, возбужденно жестикулирующих и разглядывающих что-то в этом же доме. Там на третьем этаже свесился с балкона крохотный мальчуган. Тельце его почти провалилось наружу и дергалось как у марионетки, и только голова не пролезала сквозь узкую решетку. Пока мы ужасались вместе со всеми, ситуация успела благополучно разрешиться: какой-то мужчина появился на балконе и вытащил малыша из западни.
С такого сюрреалистического сюжета и началась наша жизнь на новом месте.
Новая школа
– Солидный фраер, – сказал плотный прыщавый юноша, мой новый одноклассник, и я даже оглянулся, кого это он имеет в виду.
Оказалось, меня. Это была неправда. Какой же я «солидный» – худенький, еще низкорослый, с вечно вспыхивающим от смущения лицом?
Я стою вполоборота рядом с окном, не в силах оторваться от потрясающей картины, которая из него видна: внизу почти до самого горизонта простиралась голубая вода. Изогнутая полоска бетонного волнолома да едва виднеющийся вдали на горе неведомый полупрозрачный город совсем не портили этот вид.
– Что это за город там, на горе? – спросил я у стоящей рядом со мной полноватой высокой девушки.
– Это Градижск, – небрежно ответила она.
– Шуба, Мира идет,– раздался чей-то голос.
– Знакомьтесь, ребята, это наш новый ученик. Он почти отличник, – громко произнесла появившаяся в двери учительница, наш классный руководитель, Мира Израилевна, красивая брюнетка, со слегка пробивающейся сединой.
– Пусть идет ко мне, раз он отличник, – махнул рукой крепкий черноволосый парень с низким лбом.
– У меня по русскому четверка, – уточнил я, усаживаясь за предпоследнюю парту и внутренне ликуя: неужели теперь я буду видеть эту воду и гору каждый день?
Школа была новая, как и все здания в том городе, сложенная из белого силикатного кирпича, трехэтажная, по всей видимости, типовая. В ней было все, что нужно для обучения: и просторные классы, и спортзал, и актовый зал, и небольшой школьный стадион, обнесенный, как и все, что принадлежало школе, невысоким металлическим забором.
Но главным ее достоинством был, как мне казалось, изумительный вид из окон нашего класса, открывавшийся на Кременчугское водохранилище, которое мы иначе как море и не называли.
Наш класс был, по совместительству, еще кабинетом ботаники и анатомии, о чем свидетельствовали многочисленные кадки растений на подоконниках и гербарии, и муляжи скелетов за стеклянными стенками шкафов, стоящих вдоль двух стен.
Мои новые одноклассники жили, в основном, в двух частях городка. На Верху жили дети строителей ГЭС и были, как правило, приезжими. Их родители первыми получили квартиры в новых домах, привезли сюда семьи, обжились.
Затем некоторые из них уехали строить Киевскую, а потом Каневскую ГЭС, а их дети остались здесь учиться. Ребятам приходилось вести самостоятельную, почти взрослую жизнь.
Другие жили в Табурищах. Это были потомки казаков, их родители не только строили ГЭС, но и вели личные хозяйства с огородами, фруктовыми садами и домашней живностью. Их дети, разумеется, уже на равных участвовали в домашних делах.
Я чувствовал, насколько многие мои одноклассники по своему жизненному опыту были старше меня.
Было одно весьма таинственное занятие, которое объединяло некоторых из этих ребят. То один, то другой приходил в школу сонным, и тогда его подталкивали и, полушутя, спрашивали:
– Сколько?
–– Пять (а иногда семь или восемь) – следовал ответ.
Позже я узнал, что ребята по ночам ходили браконьерить на ГЭС, что было весьма рискованным занятием, а рыбу сдавали задешево какой-то старухе-перекупщице.
Еще одно приятное отличие здешней школы от моей школы в Закарпатье – здесь все учились в одну смену. Поэтому занятия начинались не очень рано, как мне помнится, часов около одиннадцати.
Мои родители сняли для нас жилье на обочине Табурищ. Поэтому в школу мне приходилось идти сначала по сельским улицам, а потом через парк. Сразу после приезда эти переходы мне очень нравились.
У нас было два маршрута для прохода по парку. Один, более длинный, предполагал проход по тропинке в глубине парка с постепенным подъемом по овражку почти перед самой школой. Другой маршрут обходил парк почти стороной, но по нему нужно было преодолевать крутой подъем в горку, буквально нависающую над домом еще одного моего одноклассника – Вити Нестеренко, смуглого, похожего на цыганчонка.
Пока не опала листва, я неизменно выбирал маршрут подлиннее. Как приятно было шуршать желтыми листьями, образующими на дне оврага глубокие скопления, мягкие, как перины.
Вечером, разумеется, я предпочитал другой маршрут.
Когда выпал снег и на горке его изрядно укатали, выбор стал не таким однозначным: либо выбираться по оврагу иногда по плохо протоптанной тропинке, либо карабкаться по крутому склону обледеневшей горки.
Я почему вдруг заговорил об этой горке?
На память мне пришли эпизоды с моей одеждой. Я всегда был к ее выбору очень непритязательным. И безропотно носил то, что давала мама, и что можно было купить в магазинах на наши очень ограниченные финансы.
В тот год у меня был новый костюм, потому что из старого я быстро вырос.
Костюм сшил наш хозяин из странной ткани, похожей на тонкое байковое одеяло. Кроме того, на мне было длинное, сшитое на вырост пальто из отцовского отреза на офицерскую шинель.
Дополняли мою экипировку высокие шнурованные ботинки на очень толстой резиновой подошве с глубоким как у грузовика протектором.
Вероятно, мама купила их где-то на барахолке, и были они, возможно, еще трофейные или попавшие к нам по «ленд-лизу». Мы их в шутку называли гд, что составляло аббревиатуру от не совсем приличного слова: говнодавы.
В своих гд я запросто преодолевал эту скользкую крутую горку, чем, наверное, вызывал черную зависть у моих одноклассников.
Помню, я очень жалел, когда они мне стали тесны.
Мира
– Кумохин, срочно зайди ко мне в учительскую, – громко на весь класс возвестила Мира Израилевна на последней перемене.
Предчувствуя недоброе, я побрел в учительскую. Кроме нас в ней уже никого не было.
Я остановился почти у самой двери, прислонившись к стенке. Учительница оперлась вытянутой рукой о стену, как бы препятствуя моей попытке сбежать.
– Кумохин, я знаю, что вчера вечером двое моих учеников распивали алкоголь возле райсовета. Скажи мне, кто это был!
– Ну, если Вы знаете, зачем же тогда я? – ответил я тихо.
– Да, я знаю, но я хочу услышать эти имена от тебя. Говори, же! – продолжала наседать Мира, видимо, не теряя надежды сломать меня.
Я терпеть не могу, когда на меня кричат.
– Нет, – ответил я уже громче.
– Ах так, тогда ты скажешь мне перед всем классом, – заявила она и потащила меня за рукав на выход.
Последним, шестым, был урок литературы, однако никакой литературой у нас и не пахло.
– Ребята, – начала Мира, как всегда громко и четко выговаривая каждый слог, – вчера у нас произошел безобразный случай. Двое учеников из нашего класса распивали алкогольные напитки возле здания Райсовета. И сейчас Кумохин расскажет нам, кто это был!
В классе воцарилась жуткая тишина.
– Встань! – я медленно поднялся.
– Говори! – я молчал.
Тут учительница увидела, что ученик, которого она даже и всерьез не воспринимала, рассчитывая устроить показательный эксперимент с признанием, очной ставкой и мало ли чем еще, этот хлюпик, этот «маменькин сынок», – он улыбался!
Я сам не знаю, как это у меня получилось. Ведь до сих пор я никогда не спорил с учителями. Да, честно говоря, у меня и поводов не было.
Я хорошо учился, никогда не нарушал дисциплину, был тихим, послушным мальчиком.
Но эта красивая женщина требовала от меня невозможного – предательства.
И тогда с Мирой Израилевной случилась истерика.
Она бегала по классу, выкрикивая не очень связные слова, лицо у нее пошло красными пятнами и сделалось совсем некрасивым. А я продолжал стоять, и на лице у меня, как приклеенная, красовалась совершенно неуместная улыбка.
Урок был сорван.
Я оделся и отправился через весь Верх в столовую на Приморской улице, куда мама устроилась в буфет. Здесь я обедал по рабочим дням.
Я еще не успел и первого доесть, как в столовую буквально ворвалась Мира.
Она отозвала маму, которая до этого сидела рядом со мной в виду отсутствия покупателей. Они довольно долго разговаривали в другом конце зала, так что мне ничего не было слышно.
Вот это номер! Неожиданности буквально преследовали меня в тот день. Я и не подозревал, что Мира знакома с мамой. Это было неприятно, тем более в такой ситуации.
Поговорив несколько минут на повышенных тонах, Мира ушла, явно раздосадованная.
Когда мама подошла ко мне, я ожидал выяснения отношений, но она все отлично поняла.
– Я познакомилась с твоей учительницей, когда лежала в больнице, – сказала мама, – мне показалось, что она очень хорошая женщина, но видно, я ошиблась.
– А чего она хотела от тебя?
– Того же, что и от тебя, но я сказала, что у нас в семье не любят предателей, – сказала мама с неожиданной твердостью.
Нечего и говорить, как я был признателен за эту поддержку, но к этому эпизоду мы больше с ней никогда не возвращались.
Другой вопрос не оставлял меня и когда я в школе так по-дурацки улыбался, и пока пробирался по продуваемым холодным ветром пустынным улицам.
Кто сообщил Мире?
Я снова и снова перебирал в памяти события прошедшего дня. Вот моя одноклассница Лиля приглашает меня прийти вечером к ней домой на вечеринку. Будут ребята и девчонки из нашего класса. Вот я заявился, но оказалось, к ней приехала родственница, и вместо вечеринки мы прогуливаемся по вечернему городу: две девушки и трое ребят.
Ветер раскачивает фонари на растяжках столбов.
Холодно.
Вот отчаянный хулиган Вовка Шемякин пообещал принести что-нибудь «для сугрева» и пришел из гастронома с бутылкой дешевого портвейна «три сапога» – 777.
– Кто будет пить из горла?
Девчонки Лиля и Мила отворачиваются – нет.
Я тоже отказываюсь.
– Ну ладно. Нам больше достанется.
Закадычные друзья Шема и Емеля заходят за угол «Белого дома».
Нам хорошо видны их раскачивающиеся тени.
Вернулись довольные, пахнув издалека сладкой бормотухой.
Так, кто же донес?
Лиля – отпадает.
Милка, своя в «доску», разумеется, тоже.
Вовка с Витькой? Они же не самоубийцы.
Остаюсь только я.
Но я этого не делал!
В Табурищах
Родители быстро нашли жилье. Небольшой домик по улице Кирова, в котором нам предстояло обитать больше года, находился в дальней части Табурищ. Пожилая пара сдала нам половину дома: маленькую комнатку и кухню с большой печью.
Хозяин, колоритного вида казак с седыми усами и бритой головой, несмотря на почтенный возраст, а ему пошел уже девятый десяток, выглядел хоть куда: гладкая кожа и совсем не стариковская сила. В теплую погоду он любил ходить по пояс голый, а то и вовсе в трусах. Тело у него удивительно молодое и на вид ему больше пятидесяти не дашь. Он ленив, и, если бы не дражайшая его половина, мог спать целый день.
Двигается он медленно, и говорит тоже медленно:
– Ну, чого ти, стара дура, причепилась до мэнэ?
Спутница его жизни была лет на пятнадцать моложе, но смотрелась не так эффектно. Позже мы поняли, какой душевный недуг подтачивал ее здоровье. Ревность. Это был настоящий Отелло в юбке.
Старуха ревновала своего благоверного к каждой проходящей мимо их ворот женщине, но больше всего – к сорокалетней вдове из соседнего дома.
– Вы представляете, – изливала она маме свою душу,– стоит мне только за порог, как он шасть к этой бабе.
Уходя из дома, она запирала старика на ключ, но все равно жаловалась, что он убегал от нее на свидание – через форточку.
– Они меня отравить хотят, – жаловалась она в очередной раз и предъявляла в качестве доказательства яблоко из своего сада, – вот эти крапинки, это они кололи сюда шприцем с ядом. Только я эти яблоки есть не буду!
Через год мы съедем от них, а она будет ревновать его еще долго.
Приехав в очередной раз к родителям, я узнал, что, дожив почти до ста лет, дед помер, а старуха, едва не повесившись от скуки, продала дом и переехала жить к дочери.
Старик был портным. Я не знаю, возможно, было у его профессии другое название: он специализировался на фуражках. Я видел выставленные для просушки во дворе его творения: это были кепки огромного размера, настоящие аэродромы.

