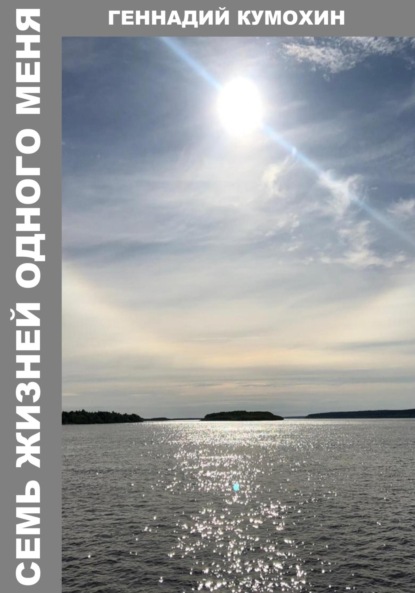
Полная версия:
Семь жизней одного меня
Кто-то не выдерживает и прыскает.
– Нековальский, не гад, а hat. Повторите за мной: hat. Und was machen sie in den Garten seines Vaters?
Мишка задавленно молчит.
– Arbeiten, arbeiten! – громко шипит Шемякин, нагибаясь между партами и показывая руками, будто копает землю.
По немецкому у меня твердая «пятерка», такая, что тверже не придумаешь.
Но заслуга в этом не моя, а Мориса Менделеевича, учителя немецкого языка в закарпатской школе, где я учился до приезда сюда.
Вот кто был настоящий немец.
Он с пятого класса разговаривал с нами только по-немецки и здорово нас натаскал. Вот уже год я пользуюсь старыми знаниями и, наверное, еще долго буду пользоваться. Иногда становится стыдно получать отличные отметки и ничего не делать, но я успокаиваю себя, что всегда успею взяться за иностранный по-настоящему, если в этом возникнет необходимость.
А сейчас есть предметы и поважней.
Впрочем, не только я чувствую себя свободно.
На последней парте гремит пустой спичечный коробок – это Шема с Емелей играют в «коробочки».
Марфа Ильинична уже несколько раз морщилась и махала рукой в их сторону.
Потом вдруг «бац» – звук как при выстреле.
Это Шема хлопает Емелю металлической линейкой по лбу.
– Шемякин, выйдите, пожалуйста, из класса.
– Марфа Ильинична, так ведь он проиграл!
– Шемякин, выйдите из класса за то, что играете на уроке.
Вовку дважды просить не надо. Он собирает свои тетрадки.
– Емеля, айда!
– Нет, Емельяненко останется в классе.
С видимым сожалением Шемякин выходит.
Учительница снова обращается к несчастному Нековальскому, который все это время стоит, переминаясь с ноги на ногу:
– Нековальский, sagen sie mir, bitte, um wievie Uhr stehen sie auf?
Дверь отворяется и в щель просовывается всклоченная голова Шемякина:
– Емеля, выходи!
Марфа Ильинична сердито оглядывается, но дверь уже захлопнулась.
– Марфа Ильинична!
– Ну, что еще, Емельяненко?
– Можно выйти, я чернилами облился, – и он показывает ладонь, на которую только что выпустил баллончик чернил из авторучки.
– Ничего, посидите, не маленький.
– Так ведь, щипит! – Витька корчит страдальческую мину.
– Ладно, отправляйтесь за своим дружком, только папку оставьте. Уроки еще не закончились.
Класс тихо воет от восторга.
Через минуту, выглянув в окно, я вижу, как они направляются через школьный двор на пятачок – так зовут площадку над спуском к морю – маленький ершистый Шемякин и большой, согнувшийся вопросительным знаком Емельяненко – комичная пара.
Марфа Ильинична отпускает, наконец, Мишку.
Он некоторое время продолжает стоять, и, вытянув шею, наблюдает за движением пера в графе журнала.
Расцветает, показывает на пальцах: «три» – и бодрым шагом отправляется на место.
Я еще некоторое время смотрю в окно, затем перевожу взгляд на парты, пробегаю их и останавливаюсь на одной.
Потом снова в окно, и опять на эту парту.
Привычный маршрут.
Скоро месяц, как мы вернулись из колхоза, а это наваждение все не отпускает.
– Ты чего? – это Толя Кулиш, мой сосед по парте, очевидно, и он заметил.
– А? Да так….
Отыскиваю промокашку, торопливо пишу несколько строк.
Протягиваю записку Толе:
– Передай, вон туда.
– А прочесть можно?
– Читай, пожалуйста, ведь это шутка! – но уши у меня начинают подозрительно гореть.
Когда записка шлепнулась к ней на парту, Клава, вздрогнув от неожиданности, захлопнула книгу.
Нахмурив брови, начала читать, потом не выдержала, прыснула от смеха и толкнула соседку.
Посмеиваясь, они начали читать мои каракули, затем принялись глазами искать автора.
Я, разумеется, отвернулся, но предательские уши выдали меня с головой.
Все так же хихикая, девчонки достают по листку бумаги и начинают писать, очевидно, ответ.
На это уходит оставшаяся часть урока.
Как обычно, перемену мы проводили на пятачке.
Курильщики курили, а не курящие, вроде меня, слонялись без дела. В класс заявились после звонка, но, поскольку нас было многовато, географичка не стала применять репрессии.
На моем месте на парте лежала давешняя промокашка.
На обороте несколько аккуратных строчек.
Внутренне ликуя, я хватаю новую промокашку, но тут вмешиваются обстоятельства непреодолимой силы.
Прощать что-либо не в характере нашей учительницы географии.
Мы зовем ее «Лисичкой», за то, что она вся такая остренькая и быстрая.
– Так, – говорит она, открывая журнал на нужной странице, – сегодня отвечающих и искать не нужно – вон сколько у нас опоздальщиков. Ну-ка, Кумохин, бери указку!
С неспокойной душой отправляюсь к доске.
Сегодняшний вызов у меня не предусмотрен.
Только на прошлом уроке я тянул руку, и, получив «пять», рассчитывал на две-три недели спокойной жизни на уроках географии. Обычно, этот метод себя оправдывал. Да, где угодно, но только не у Лисички. Теперь остается надеяться только на свою память.
Некоторые ребята, завидуя, наверное, моим отметкам, считают меня зубрилой. Знали бы они, что я если и заглядываю в учебник, то только перед самым уроком. Все остальное дается мне как бы само собой.
Но каждый раз, перед ответом, я глубоко вздыхаю и успеваю подумать почти со страхом:
– А вдруг она не сработает?
Но она срабатывает и на этот раз.
Старательно подсовывает мне даты, цифры, сравнения. Почти как в учебнике, но только «своими словами».
На место я возвращаюсь уже абсолютно спокойным.
Достаю ручку, пишу. Все остальное для меня больше не существует. Наконец, ставлю точку, пододвигаю записку моему «цензору».
По тому, как что-то меняется в лице Толика, догадываюсь, что это уже не просто так, не шуточка, что на этот раз я попал в точку. Но в какую? Должно быть, я скоро об этом узнаю. Сворачиваю листок и сам швыряю его на ту парту.
Лисичка успевает заметить, но спасительный звонок предупреждает уже готовое вырваться замечание.
Хватаю свою папку и выбегаю из класса. Последний урок – биологию – я твердо решил прогулять.
Тихая и ясная пора, когда крепчающие день ото дня утренники тают бесследно в мягком сиянии ноябрьского солнышка, а оно на закате дарит вечера действительно лучезарные, переходящие в холодные ночи с серебристыми каплями звезд – это умиленное и радостное умирание было прервано неожиданно и резко.
С вечера задул северный ветер, небо затянуло, а ночью разыгрался настоящий шторм. Мощным порывом с прикола сорвало укрывавшийся в бухте за волноломом теплоход «Некрасов» и выбросило на камни напротив Спецстроя.
Пассажиров на нем не было, а экипаж, перегонявший теплоход вниз по реке, в ту ночь почти весь сошел на берег. Всю ночь завывал ошалело пароходный гудок. Редкие зеваки, рискнувшие выбраться из дома в такую непогоду, были вознаграждены кто стулом, кто ковром, выброшенными из кают, а кто и просто спасательным кругом или полированной под красное дерево доской.
На рассвете два буксирных катера сняли теплоход с камней и, поддерживая его, словно санитары раненого бойца, бережно повели через шлюз вниз по Днепру.
Наутро в школе только и разговоров было, что о «Некрасове», и о том, кому больше добра досталось. Героем дня оказался какой-то Гриша, контролер на водозаборе, который раньше всех оказался на месте происшествия.
– Волны во какие – через парапет так и хлещут, – передавали слова восхищенного свидетеля, – а этот сумасшедший с багром по откосу бегает. Мебели натаскал – целую квартиру обставить можно!
Среди всеобщего возбуждения один только я не принимал участия в этих разговорах, казался подавленным и всего несколько человек знали причину моего уныния.
Вчера в половине десятого вечера, как обычно, закончилась тренировка в секции гимнастики в школьном спортзале. Часа полтора мы занимались на снарядах, пытаясь разучить с листа новые элементы, а затем гоняли мяч на импровизированном поле и возились со штангой.
Каждый, кто хоть сколько-нибудь занимался спортом, знает ту умиротворенную усталость, с которой возвращаешься после очередной тренировки. Натружено покалывают ладони, налитые мышцы ног и спины делают тебя немного неуклюжим, словно ты не худой, пусть даже и мускулистый подросток, а эдакий силач – тяжеловес.
Но ты выходишь на улицу, и твоя длинная тень с путающимися полами неуклюжего пальто возвращает тебе сознание твоей худосочности.
Мы возвращались домой с моим одноклассником Толей Тесленко, тихим, немного забитым мальчиком, которого я сагитировал записаться в секцию, для того, чтобы не было так скучно возвращаться домой по глухим улочкам Табурищ.
Прямо напротив школы строился новый дом. В узкую щель между ним и каменным забором банка нам предстояло пройти.
Здесь, в перекрестьях бегающих теней, нас поджидали двое. Один взял Толю за руку и отвел в сторону. Другой, пряча руки за спину, и по-бычьи наклонив голову, стал напротив меня.
Я узнал Аниську, как бы ни старался он придать себе солидности.
– Ну, чего тебе, Аниська, – спросил я, как будто спокойно, но сердце у меня отчаянно заколотилось.
– Сказано тебе, чтоб ты от нее отчепився.
– От кого, от нее? Да говори ты толком, что тебе нужно.
– Тебе лучше знать от кого, от крали своей!
– Идиот,– закричал я ему в лицо, – нет у меня никакой крали. Не было и нет. Запомни это!
– Ну, вот тебе за идиота! – процедил Аниська и ударил меня кулаком в перчатке в лицо.
Удар получился не сильный, вскользь, но нижняя губа оказалась глубоко рассеченной изнутри, и я почувствовал, как рот наполняется кровью.
И тут произошло то, что я до сих пор вспоминаю со стыдом, хоть знаю, что был совершенно прав тогда.
Позже, когда я не один раз возвращался к этому злополучному вечеру и мог не спеша проанализировать все мысли, которые промелькнули у меня в одно мгновение, я понял, что меня насторожило.
Он был там не один. Слабый, но задиристый щенок. Он провоцировал меня и ждал ответной реакции. Где-то рядом были его сообщники, которые только и ждали начала драки.
Я не знал, кто был с ним, но без сомнения они присутствовали, где-нибудь в соседнем подъезде или за домом.
Но все это я понял только потом, а в тот момент ощутил только холодок по спине. И не то, что бы испугался, а почувствовал опасность.
Я видел, как втянул он голову, ожидая удара, и приготовился к нему. Но я видел и его улыбку, отвратительную подлую ухмылку подсадной утки. Он хорошо знал, что за этим должно было последовать: я должен был броситься на него – и бить: руками, ногами, головой, пока не исчезнет эта ухмылка на его лице и … пока не начнут меня топтать ноги тех, кто затаился сейчас в темном подъезде.
И я знал, что должен был это сделать, но вместо всего этого, я схватил руку, которая только что ударила меня, и, сжав ее, тихо, как будто ничего не произошло, и я не сглатывал кровь, которая сочилась все сильнее, начал говорить, что произошла ошибка, и никакой девушки у меня нет. Ошибка, ошибка.
Я смотрел ему в глаза и видел, как исчезла ухмылка, сменилась недоумением, затем вспыхнула радость – его тоже не будут бить! – и опять недоумение: что же делать дальше?
– Генка, беги! – услышал я голос Толи и увидел, что он стоит поодаль и машет мне рукой. Но я не побежал, потому что у меня закружилась голова, когда я дотронулся языком до раны и почувствовал жгучую боль.
Мы отошли, и нас никто не трогал.
– Сильно он тебя? – спросил Толик с состраданием.
– Да нет, не очень, губу только разбил. Кровь идет.
– На, подержи пятак, а то распухнет, – посоветовал он и протянул монету.
Я прижал металлический кругляшок, но он скоро нагрелся и уже не приносил пользы.
– Ну, ничего, мы соберем завтра наших ребят: Кулиша, Шему, Емелю – они им таких насуют, – пригрозил Тесленко, который был, видимо, расстроен не меньше меня.
– А за что это они? – спросил он несколько погодя.
– Да откуда я знаю, за что? – не выдержал я, потому что, действительно не знал этого.
Но дома, лежа в постели, глотая слезы, я начал о чем-то догадываться.
В ту ночь светила дивная луна.
В небе, пронизанном голубым светом, висел огромный слепящий шар, такой, что даже больно было на него смотреть. Он сиял над приязненным миром, из которого я видел только малую часть – село, лежащее в низинке между двумя холмами, с гребенчатой верхушкой леса и картофельным полем.
Я видел только часть, но знал, просто уверен был, что и весь окружающий мир такой же светлый и улыбающийся. Дома начинались где-то далеко, за пределами видимости, но основное направление единственной улицы хорошо просматривалось по аллее пирамидальных тополей, сияющих каждым застывшим, как будто вырезанным из блестящей фольги листком.
Тот час же за последним двором, за плоской площадкой начинался залив. Вернее, я знал, что там должен быть залив, но видел слепящее металлическое зеркало, как будто даже выпуклое, возвышающееся своей срединой над лужайкой, тоже светлой и сияющей.
Попадая ногой в маленькие рытвины, я, конечно, понимал, что наша площадка не что иное, как выгон для скота, бесчисленное число раз шествующего из села на водопой и обратно.
Но в том-то и заключалось очарование этой ночи, что лунный свет колдовски преобразил окружающую нас природу, как Золушку, и, может быть, как в случае с Золушкой, не просто набросил сверкающий свой наряд, но раскрыл и высветлил самую сущность ее нетленную.
В колхоз нас привезли на катере и высадили на местной пристани. Разместив по несколько человек в частных домах, нас отправили на картофельное поле. Целый день мы всем классом копали клубни и набивали их в мешки, а вечером, не сговариваясь, высыпали на деревенскую улицу и до глубокой ночи играли в салочки, по-местному в «квача».
Тот, кто приходил позже, автоматически становился «квачом» и должен был поймать первого, кто подвернется под руку.
А остальные прыгали вокруг и старались попасться на глаза раньше других. В тот вечер я так ловко бегал и изворачивался, что ни разу не дал себя поймать.
Наверное, все-таки, напрасно, потому, что я тогда бы мог погнаться за Таней, и коснуться плеча девушки, с которой я не успел еще по-настоящему и парой слов перемолвиться. Мой сосед по парте Толя Кулиш, в отличие от меня, то и дело водил, хотя бегал ничуть не хуже.
Едва приняв кон, он тут же бросался за Таней, и, догнав, с торжествующим криком набрасывал ей на голову свой пиджак или выкидывал еще какую-нибудь штуку.
– Э, так не интересно, – кричали им вдогонку, когда они убегали слишком далеко.
Но мне все было интересно: и то, как звучит ее смех, и как она бегает, пусть не очень легко, но, все-таки, достаточно быстро.
Я видел, что она нравится Толику, но это ничуть не задевало меня. Мне казалось, что все должны восхищаться ее прелестью, так же, как красотой этой ночи, и неба, и залива. И это мог не заметить только слепой.
Утром я не смог есть и, сославшись на отсутствие аппетита, выпил только стакан чаю. Против ожидания, губа распухла не сильно.
Первые три урока – и в этом было мое спасение – занятия проходили в столярной мастерской. Я почти любил это время. Заточить на бруске лезвие рубанка, настроить инструмент так, чтобы из-под руки невесомыми свитками тянулась стружка:
Вжик –вжик.
На гладкой поверхности доски в разводах годичных слоев отдыхает твоя измученная душа.
На перемене ко мне подошел Тесленко, скривив рот в странной для него усмешке, сказал:
– Это Кулиш тебе подстроил за Таньку Тихову.
– Но это еще не все: в подъезде нас поджидали сам Кулиш и Шема с Емелей.
– Ладно,– ответил я, продолжая строгать, – там видно будет, – и сплюнул в ворох опилок розовую слюну.
Так и не дождавшись конца третьего урока, ребята побежали смотреть на место аварии «Некрасова». Остались дежурные – я и Кулиш, – следующие по списку. Молча, не глядя друг на друга, подмели под верстаками, и, сложив мусор в носилки, отнесли в яму за забором школы.
Я долго пытался разжечь отсыревшие стружки, а Кулиш молча стоял наверху. Когда пламя разгорелось и, отряхиваясь от прилипших опилок, я вылез наверх, он мрачно посмотрел на меня:
– Ладно, если хочешь, мы можем с тобой столкнуться.
– Как это – столкнуться? – не понял я.
– Ну, подраться, вон там, в лесу после уроков.
– Да пошел ты к черту, понимаешь? – на этом «понимаешь» у меня задрожали губы, но я сдержался.
– Ну, как знаешь, – он пожал плечами, поглядел на огонь и, не спеша, увязая в размокшей после дождя глине, направился к спуску.
Не направо, по лестнице, а напрямик, так было ближе.
Когда я пришел в класс, там еще никого не было.
Девушки проходили практику по предмету «кройка и шитье» в другом помещении.
Следующим был урок истории.
Я сел за парту, открыл учебник. Глядя перед собой в одну точку, стал почти с ужасом думать о том, что сейчас откроется дверь и войдет кто-нибудь из моих одноклассников.
Неужели только вчера я был так совершенно и безоблачно счастлив?
И как могла случиться именно со мной эта ужасная история?
В класс они ввалились все вместе, нисколько не обращая на меня внимания и все еще обмениваясь впечатлениями о ночном шторме.
Однако я заметил, что все уже знают обо мне. Впрочем, мне, кажется, сочувствовали. Я встретил только один или два насмешливых взгляда, заставивших меня мучительно сжаться и покраснеть.
Как я отсидел оставшиеся уроки не знаю.
Хорошо еще, что меня ни разу не вызывали к доске. Уж на этот раз я бы неминуемо провалился.
На перемене, когда я прогуливался по коридору с гордо поднятой головой (а что еще оставалось мне делать?), ко мне подошла Таня.
В другое время я бы удивился, но только не сейчас.
– Ну, что еще? – спросил я недовольно, как будто меня оторвали от важного дела.
– Гена, – заговорила она участливо, не заметив моей грубости, – Толька что-то тебе сделал из-за меня? Хочешь, я скажу Рудину, и он отлупит Кулиша? Рудин «король города» и все для меня сделает, – добавила она торопливо, расценив, очевидно, мое молчание, как неверие в ее возможности.
Я молчал, как истукан.
– Ну, что ты решил? – спросила она, начиная уже сердиться на мое молчание.
– Да, ничего – отвечал я, потому что не знал, что ответить.
У меня вдруг возникло ощущение, будто я нахожусь не здесь, а где-то далеко-далеко и вижу ее, как если бы смотрел в бинокль с обратной стороны.
Там стоит чужая девушка и что-то говорит мне, а я едва слышу ее.
Ее голос, низкий, грудной со слегка заметной картавинкой, сейчас он не завораживает меня, а даже раздражает.
А вот и я ей что-то ответил, но голос совсем чужой и доносится он тоже издалека:
– Собственно говоря, это тебя не касается, ты совершенно не при чем в этом деле.
И опять мы стоим и молчим.
Наконец, там, вдалеке, девушка не выдерживает.
Она явно обижена, она пожимает плечами:
– Я ведь помочь хотела.
– Спасибо, я сам.
Девушка поворачивается и уходит. Но что же я делаю?
Нужно немедленно вернуть ее. Ведь это же навсегда!
Но сил у меня нет, и я только судорожно прижимаюсь к решетке у окна, возле которого мы разговаривали.
Таня уходит.
Но разве это та девушка из моей лунной ночи? У нее тяжеловатая походка и ученическая форма смешно и неестественно облегает ее уже сформировавшуюся фигуру.
Странно, как я не замечал этого раньше.
После этого мои отношения с одноклассниками еще долго были, так сказать, на точке замерзания.
Вероятно, наиболее полно общественное мнение обо мне высказала тогда Лиля, откровения которой я подслушал случайно:
– Ах, это дитя, Гена Кумохин!
На улице Строителей
Прошло больше года, прежде чем родителям удалось получить коммунальное жилье. Это была одна комната в трехкомнатной квартире. Она находилась на первом этаже двухэтажного дома, уже не нового, но приземистого и крепкого. Наша комната была расположена в конце длинного и узкого коридора, рядом с крохотной кухней. Комната тоже была маленькая, как сейчас помню, одиннадцать с половиной квадратных метров. Вчетвером мы едва в ней помещались, особенно ночью. Мне довелось спать на раскладушке, и чтобы выйти из комнаты, нужно было приподнять мою раскладушку до уровня груди.
Волей-неволей нам пришлось оккупировать и кухню. Благо, в двух остальных комнатах жили старушки. Одна была маленькая и незаметная, как мышка, а другая высокая, сухопарая с громким голосом. Обе были одинокие и жили на свои крохотные пенсии. У мышки была пенсия двенадцать рублей, а у сухопарой восемнадцать. Поэтому в их рационе питания были в основном каши, и на кухне они долго не задерживались.
Мы же, после изнуряющей борьбы с вечно дымящей печью, чувствовали себя почти на вершине блаженства. Кроме того, в доме был водопровод, так что я, практически впервые за свои пятнадцать лет, мог в полной мере насладиться и этим благом цивилизации. Правда, я не торопился по утрам пользоваться краном, и, несмотря на уже наступившие холода, по утрам выходил во двор умываться под колонкой. У меня был заготовлен обломок кирпича, подсунув который под ручку, я добивался непрерывного течения струи без участия рук. Через дорогу напротив нашего дома находилась автобусная остановка, и пораженные бабули, укутанные в теплые шали, почти с ужасом смотрели, как худенький подросток в одних трусах и тапочках на босу ногу в клубах морозного пара неторопливо шлепал домой.
– Тю, скаженый, – доносились до меня комментарии моих невольных зрителей.
Но эти представления скоро прекратились, потому что недовольный управдом обнаружил перед колонкой огромную замерзшую лужу и велел заглушить воду до весны.
Я по-прежнему продолжал, подобно удаву, проглатывать огромное количество книг. Но теперь уже сидя на кухонном стуле, что было гораздо удобнее, и мне больше не нужно было кутаться.
Сейчас немного даже странно вспоминать о той жажде знаний, которая захлестывала меня целиком. Вот как я мог, например, провести свой выходной день. С утра слушать какую-нибудь научно-популярную передачу по динамику на кухне, затем полдня читать свои книги, а потом в одиночку отправиться бродить дотемна по берегу моря или по парку.
Кроме того, я начал вести нечто вроде дневника, только стихотворного, в котором описывал, например, частые смены весенней погоды, прилет скворцов, но иногда, незаметно для себя, появлялись тоскливые строчки, в которых я жаловался на одиночество. Эти свои упражнения, я, разумеется, никому не показывал.
С приходом весны я значительно увеличил дальность своих пеших походов. Кроме уже привычных зарослей белой акации и вездесущих тополей новым явлением для меня были рощицы дикой абрикосы – жердели, в апреле удивительно густо покрытых розовыми ароматными цветками.
В саду последняя метель
Опавших лепестков.
И горьковатый легкий хмель
Цветенья и костров.
Однажды, я, как обычно, в одиночку, гулял по парку и услышал чудесные звуки музыки, которые раздавались в летнем кинотеатре. Я подошел поближе, а для того, чтобы увидеть, что происходило на сцене, залез на ветку ближайшей к ограде кинотеатра сосны. После сеанса я подошел к афише и увидел, что показывали, к слову сказать, редко идущий тогда фильм-балет «Ромео и Джульетта» на музыку Прокофьева с Галиной Улановой в главной роли.
Но тогда, сидя на дереве, я зачарованно смотрел на чудесное действо. А когда зазвучали аккорды знаменитой сцены «чумы» и Уланова пронеслась, нет, буквально пролетела над сценой, я почувствовал, как мороз пробежал по спине, и чуть не упал со своей ветки. Так я понял, что мне нравится классическая музыка, и подумал: когда у меня появится возможность, я непременно буду ходить на концерты, на оперу и балет.
Что касается школы, то здесь у меня по-прежнему не было изменений, я ни с кем не сходился близко, хотя внешне у меня были приятельские отношения со многими ребятами.
На Днепре
Следующей весной произошло событие, которое, несмотря на его кажущуюся незначительность, стало одним из определяющих в моей бедной юности.
Отец купил лодку. Это была крепкая двухвесельная плоскодонка, такая тяжелая, что и два взрослых человека не смогли бы ее поднять.
О покупке мотора не могло быть и речи. Да я нисколько не хотел этого.
Я не мог дождаться того момента, когда сойдет, наконец, лед, и ее можно будет спустить на воду.
Несколько раз мы, еще по холодной воде, отправлялись на лодке вдвоем, а потом отец, убедившись, что я вполне освоился, разрешил мне выходить в плавание одному.
С той поры я перестал жаловаться в своих доморощенных стихах на свое одиночество.
Эта лодка и река стали моим вторым домом.
С ранней весны до глубокой осени пассажиры пароходов и хозяева моторных лодок, проносящихся мимо со скоростью ветра, могли видеть на реке странного паренька, терпеливо загребающего веслами на могучей реке.

