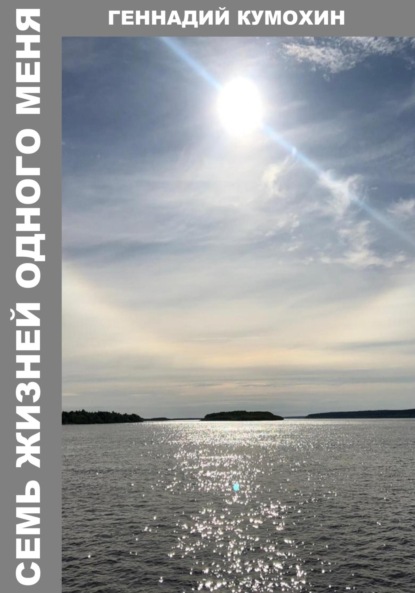
Полная версия:
Семь жизней одного меня
Скоро на протяжении добрых двух десятков километров от ГЭС не было такого места, где бы ни побывала моя плоскодонка и ее любознательный хозяин.
Однажды, в самом конце мая, когда учебный год уже закончился, а экзамены еще не начались, я отправился на реку.
Это было одно из первых моих самостоятельных путешествий на лодке. И я старательно его продумал, чтобы не совершить ошибок. Мне предстояло выйти из удобной гавани, в которой находилась лодочная станция, проплыть немного по довольно узкому каналу, соединяющему Днепр со шлюзом, вытащить лодку на берег и пешком перебраться через узкую песчаную косу к основному руслу реки.
Купальный сезон еще не начался, к тому же был будний день, поэтому оба берега канала были безлюдны. Я уже знал, что уровень воды в проливе довольно сильно повышается, когда спускают камеру шлюза. Поэтому мне нужно было закрепить лодку на берегу именно в это время, чтобы потом ее не унесло поднявшейся водой.
Так я и сделал. Убедившись, что вода поднялась до самой высокой отметки, я еще некоторое время вытаскивал корпус лодки, а затем старательно обвязал длинной носовой цепью, оказавшийся поблизости ивовый кустик.
Потом я захватил с собой весла и спиннинг и перебрался через косу. Она была узкой, всего каких-то метров пятьдесят, но довольно высокой, с крутыми берегами по обе стороны. Поэтому увидеть, что происходит на другой стороне косы, можно было, только взобравшись на ее вершину.
В отличие от ровного, как будто вылизанного берега со стороны шлюза, берег на нижнем бьефе был сильно изрезан, образуя такие милые каждому рыболову бухточки и поросшие тальником островки с узкими протоками. Каменистый берег сменялся небольшими песчаными косами, на одной из которых я и обосновался. Совсем недалеко высилась гребенка ГЭС.
Это было зрелище, к которому я уже попривык за прошлое лето, только на этот раз плотина была не справа, а слева от меня.
Щуки уже успели отметать икру, но настоящий жор еще не начался, поэтому мне пришлось достаточно потрудиться, прежде чем мою блесну далеко, почти в самом начале проводки, схватила небольшая, по здешним меркам, хищница килограмма на два весом. Она оказалась довольно бойкой и прежде, чем я ее вытащил, успела пару раз выпрыгнуть из воды, тряся головой с разинутой клыкастой пастью.
Так же беспокойно она вела себя и на берегу: прыгала, пружинисто изгибаясь, на крупном ослепительно белом песке. И после нескольких прыжков превратилась в какое-то совершенно фантастическое страшилище.
В довершение ко всему она умудрилась еще и укусить меня за палец, когда я сделал неосторожное движение, вытаскивая из зубастой пасти глубоко застрявший тройник. Каждый рыболов знает, что следует особенно опасаться зубов этой хищницы: нанесенные ей раны могут быть довольно глубокими и не сразу заживают.
Кровь из раненого пальца долго не хотела сворачиваться. Я вошел по колено в уже теплую воду, опустил в нее ладонь и смотрел, как вытекающая струйка крови постепенно растворяется в прозрачной струе. Меня совсем не волновала полученная травма, но, когда мне надоело стоять в воде, я вышел на берег, растянулся на горячем песке и присыпал им ранку, подобно тому, как мама присыпала мне в детстве порезы растолченной таблеткой стрептоцида.
Солнце, стоящее почти в зените, было уже по-летнему жарким, и ни одного дуновения ветерка не пробегало по сверкающей глади реки.
Незаметно для себя я задремал. Я нисколько не опасался обгореть на солнце.
Каждый год, с первых теплых солнечных лучей я привык, как говорил отец, оставаться в форме номер раз. Поэтому, нисколько не стараясь специально загорать, самым естественным образом приобретал недостижимый для иного горожанина шоколадный цвет.
Вероятно, я проспал довольно долго, потому что, когда я приподнял голову, солнце уже успело значительно изменить свое положение на небосклоне. Больше того, из ослепительно сияющего шара оно успело превратиться в призрачный тусклый кружок, окруженный светлым нимбом.
А за ним, в той стороне, куда оно должно было опускаться, со стороны Градижска медленно поднималось нечто несуразное: темно-лиловое, сверкающее огненными сполохами ветвистых, как могучие деревья, только растущие корнями вверх, молний – и все это в жутковатой тишине совершенно неподвижного воздуха.
В одно мгновение я понял, что мне пора, как говорят, «сматывать удочки», и, прихватив весла, спиннинг и закопанную во влажный песок щуку, я буквально взлетел на высокий берег.
Увиденное по ту сторону косы, меня далеко не обрадовало. Лодка, которую я оставил у самой бровки воды, привязанной к тоненькому кусту…
Нет, лодка была на месте, и куст никуда не делся, а вот воды, воды не было!
Вернее, вода была, но, по крайней мере, метрах в пятнадцати ниже обнажившегося топкого и пологого бережка.
Делать было нечего. Чертыхаясь про себя, я отцепил лодку от куста, не забыв аккуратно сложить вещи под носовое отделение, и принялся толкать лодку к воде.
Ну, толкать, это, пожалуй, громко сказано. Единственное, что я мог, это чуть приподняв нос или корму, переместить одну часть лодки относительно другой. При этом после пары таких перемещений, лодка действительно иногда немного спускалась вниз, а иногда и не спускалась.
Но я очень торопился и настойчиво повторял раз за разом одни и те же движения: поднатужиться, приподнять, перенести и, оббежав половину лодки, проделать тоже самое. Раз, наверное, на пятидесятый большая часть лодки оказалась в воде.
Увлеченный борьбой с неповоротливой посудиной я совершенно упустил из виду быстро меняющуюся погоду: всего за несколько минут стало как будто бы смеркаться и заметно похолодало. Я еще успел ополоснуть ноги от приставшего ила, вставить весла в уключины и, столкнув последним движением лодку на воду, усесться за весла, как началось настоящее светопредставление.
Сильным порывом ветра, внезапно рванувшего вдоль течения реки, лодку сильно накренило, и она наверняка зачерпнула бы воды, если бы я, с усилием ударив веслами по воде, не заставил ее развернуться навстречу ветру.
И тут началось. Смешанный с песком и пылью ветер дул вдоль канала просто с нечеловеческой силой. Нечего было и думать, чтобы не только продвинуться вперед, к лодочной станции, но даже просто оставаться на месте.
В одно мгновение я и моя лодка оказались стремительно несущимися по самой средине канала вслед за крутыми волнами и бешеными порывами ветра.
Что чувствовал я, посреди бушующей стихии? Испуг и замешательство? Совсем не то: восторг и упоение!
По голой спине колотили порывы ветра вперемежку с холодными брызгами, а мне было весело! Я даже стал напевать какую-то бесшабашную песенку.
Очень сильный ветер продолжался всего несколько минут, но за это время меня успело отнести на добрый километр.
Потом он несколько поутих, но зато пошел холодный дождь. К этому времени я успел, потихоньку управляя веслами и держась против ветра, переправить лодку на другую сторону канала.
Правда, я оказался довольно далеко даже от того места, где всего несколько часов назад так опрометчиво отправился на свою первую самостоятельную прогулку. Порывы все еще были сильными, поэтому нечего было и думать, чтобы на веслах выгрести одновременно против течения и ветра.
Я вылез на берег и, взявшись за носовую цепь, потащил лодку обратно. Темные тучи обнимали весь небосклон, и вода в реке была темная, почти черная, только барашки на волнах серебрились.
То и дело вспыхивали молнии, но уже не над головой, а где-то над плавнями. Скоро дорогу мне преградил стоящий на приколе катер, огороженный листами железа. Мне пришлось взобраться на палубу и пройти вдоль борта, держась одной рукой за протянутый трос, а другой, держа на привязи скачущую на волнах лодку.
Я спрыгнул на песок и вдруг обнаружил, что одно весло исчезло. Я представил, как покачивается оно на волнах далеко-далеко от меня, и в первый раз за все время мне стало не по себе.
Но куда же оно, все-таки делось? Так, нет весла с левого борта. Значит, оно могло зацепиться за что-то, пока я проходил по палубе.
Слабая, почти несбыточная надежда заставила меня снова сесть в лодку и проплыть рядом с железной изгородью.
И, о радость! Я действительно увидел свое весло, которое плотно засело в щели изогнутого буквой «Г» листа металла. Если бы не случай, я ни за что бы его не заметил, так ловко оно замаскировалось. Торжествуя, я извлек пропавшее весло и уже не спускал с него глаз.
Перед самым шлюзом я заметил на противоположном берегу канала двух отчаянно машущих рыбаков. Когда я перевез сильно продрогших товарищей по несчастью на другую сторону, они долго меня благодарили. Ведь встретить кого-нибудь в такую погоду было большой удачей.
Между тем гроза окончательно стихла, снова стало тепло, и только меленький грибной дождик напоминал о пронесшейся непогоде. Туча пушистым одеялом накрыла мой город. Мягкие лапы тумана опустились до самых крыш и макушек невысоких еще каштанов и широколистых лип, которые вот-вот собирались зацвести.
И было непонятно, то ли это дождь еще накрапывает, то ли уже сам туман конденсируется на листьях, на мокром асфальте, и на моих щеках.
Я шел по тихим улочкам в прекрасном расположении духа, позабыв и думать о приключениях сегодняшнего дня.
Дома мне даже не пришлось оправдываться перед вернувшимися с работы и ни о чем не подозревающими родителями.
Да они и не спрашивали.
Эпилог «Войны и мира»
Приблизительно в начале лета 1964 года я вдруг решил, что буду заниматься философией. Именно так: не стану философом, а буду заниматься философией. Как сейчас помню, при каких обстоятельствах мне пришла в голову эта странная, с точки зрения обычного человека, мысль. Я дочитывал роман Толстого «Война и мир».
Киноэпопея режиссера Бондарчука выйдет еще только через два года. Поэтому перед глазами у меня еще не могли мелькать знакомые сейчас каждому школьнику сцены из этого фильма.
Нечего и говорить, что роман захватил меня и держал в напряжении вплоть до последней страницы. По своему обычаю прочитывать каждую книгу от корки до корки, я добрался и до эпилога четвертого тома. Того, где описываются последние слова его героев. Затем начал читать вторую часть, в которой ни о Наташе, ни о Пьере уже не было ни слова, а были какие-то рассуждения об истории и о причинах исторических событий.
Темное знание этих строк вдруг всколыхнуло мою душу, и я почувствовал, смутно еще тогда – вот оно. Чтение настолько захватило меня, что привело в возбужденное состояние, какого я не испытывал даже при чтении любимых стихов.
И опять ко мне вернулось то удивительное чувство, которое я испытал при чтении эпизода ранения князя Андрея при Аустерлице: видение бездонного неба и невыразимое ощущение присутствия высшей силы, гораздо более могущественной, чем любой человек, и народ, и даже все человечество. Я не знал, как она называется, разум ли, бог ли, но чувствовал, что готов отдать всю жизнь для ее постижения. Может быть, эта часть эпилога не очень удалась его могучему таланту, а многие читатели, вообще, закрыли книгу, так и не добравшись до этих страниц, но я читал и перечитывал эти страницы по нескольку раз.
Толстой от силы пару раз произнес это слова, но оно снова и снова непроизвольно возникало в моем сознании.
– Вот оно, то, что я давно искал, – думал я, – добираться до истинных причин, не скользить по поверхности событий, а научиться понимать самую их суть – короче, я буду заниматься философией.
Сразу после прочтения «Эпилога» я внес коррективы в план своего образования и уже к одиннадцатому классу настойчиво штудировал сочинения Маркса и Энгельса, которые тогда были единственными доступными мне первоисточниками.
– Вот она, высшая мудрость! – пело у меня в душе, когда я читал литые, чеканные строки «Манифеста».
Сгоряча схватился за Маркса, но быстро осекся, так и не осилив «Критику гегелевской философии права».
«Ничего, – подумал я,– наверное, здесь спрятан особый смысл, если его так трудно понять. Образуюсь немного – тогда и пойму».
Зато Энгельс был отчетливо понятен. Выходило, что законы истории уже открыты, и они укладываются в формулировку о смене общественно-исторических формаций.
Я снова возвращаюсь к «Эпилогу». Тогда могло показаться, что вопросы в романе задает не очень знающий человек, да и терминология у него явно хромает. Но вот сейчас я просматриваю в интернете книги современных авторов по истории философии и нахожу в мыслях Толстого гораздо больше параллелей с современным пониманием проблем исторического развития, нежели это могло показаться раньше.
Шемякин и другие
Вспоминаю мою первую осень в новой школе. В тот год еще до того, как выпал снег, с моря задул пронзительный ветер и ударил мороз. По пути в школу я опустил уши на своей кожаной шапке-ушанке и то и дело отворачивался от сильных порывов ледяного воздуха. В классе было жутко холодно, и нам разрешили не снимать верхней одежды. Все ребята приходили с красными носами и щеками.
А два друга: Шема и Емеля, щеголявших в стильных кепочках, пришли с отмороженными, огромными красными ушами. Потом уши у них прямо на глазах завяли и обвисли, как мокрые тряпочки, и их отправили домой.
Больше всех среди относящихся ко мне с неприкрытой враждебностью я опасался Шемякина. Он был дерзок, жесток и безраздельно верховодил буйным классом. Однако он ничем не проявлял своего отношения ко мне, а после происшествий в девятом, я неожиданно очутился в одном с ним лагере.
У Шемякина умер отец, и он был вынужден работать и продолжать учебу в вечерней школе. Но в нашем классе учился его лучший друг – Витя Емельяненко, и, когда он заходил к нам, все продолжали считать его своим.
Когда у меня появилась весельная лодка, мы несколько раз ходили в походы с ночевкой по Днепру. Четвертым у нас был Миша Нековальский – удивительно сильный и добродушный парень. Однажды он на ровном месте умудрился сломать мне весло, так что весь обратный путь оставшимся веслом греб я, а ему пришлось против течения загребать на корме доской.
Здесь Шемякин уже и не думал командовать, по вечерам пел под гитару грустно-смешные песни, и даже не сопротивлялся, когда я настаивал на том, чтобы перед отплытием мы каждый раз приводили в порядок очередной островок.
Я расту
В конце лета, как раз накануне учебного года мы получили квартиру на Спецстрое.
Новый дом был чудесный, из белого кирпича, пятиэтажный, а еще лучше была наша трехкомнатная квартира – распашонка на третьем этаже.
Как удивительно было иметь собственную комнату с видом на море, в которой и было всего-то мебели: старая кровать с растянутыми от времени пружинами, тумбочка с моими книжками и старый письменный стол.
А еще в квартире был туалет и ванная комната с титаном, который можно было нагревать дровами и принимать душ или ванную в любое время, а не ходить в городскую баню по субботам.
Письменный стол я поставил у окна. Стоило мне оторваться от книги, бросить взгляд в окно, и я в любое мгновение мог видеть море. Оно согревало мне душу, даже если я не думал о рыбалке, а просто смотрел на этот тихий голубой простор.
Так продолжалось целых два года.
А потом я поступил в институт, и в моей комнате поселилась сестра, и я еще несколько лет не смотрел в окно этой комнаты.
А когда я однажды все-таки посмотрел в это окно, то моря я больше не увидел. Выросшие за это время сосны напрочь заслонили этот так притягивающий меня когда-то вид.
С началом нового учебного года я узнал другую новость: из трех девятых выпускных классов образовали два десятых, так что, придя в школу, я увидел в бывшем нашем «Б» много почти новых лиц ребят и девчонок, которые учились раньше в «А» или «В».
Ко мне за парту, которую почти полгода занимал я один, подсел невысокий паренек с большими карими глазами, который скоро стал моим другом – Коля Семин. Я уступил ему место у окна.
Еще одним интересным новичком был для меня Сергей Бахусев. Он учился и раньше в нашей школе, но я его не помнил, потому что год или два он провел в Киеве в интернате с математическим уклоном.
Тогда еще было не принято называть "для одаренных детей". По какой причине он вернулся к родителям? Я слышал, что интернат не давал никаких преимуществ для поступления в институт.
Помню, я уже тогда был впечатлен его практической сметкой, потому что сам я и не заглядывал так далеко в свое будущее.
Посреди учебного года в классе появилась еще одна девушка – Наташа Глазкина.
Ее отца перевели в наш город из далекого Омска и сейчас же дали квартиру. Лично мне она не понравилась совсем: маленькая пышечка с длинным носиком, в очках, и забавным пришепетыванием. Но сейчас же оказалось, что у нее появилось сразу два рыцаря: счастливый – Сережа Бахусев и несчастный – Коля Семин.
На Спецстрое жили многие мои одноклассники и ребята из параллельного класса, поэтому я в любой момент мог зайти, скажем к Коле Семину, жившему на улице Богуна, или Сергею Бахусеву, чей дом находился напротив моего.
Наш дом был самый новый и за ним вообще ничего не было.
То есть, не было других домов, а было почти бескрайнее поле подсолнухов, которое тянулось вдоль кромки высокого берега моря, заросшего деревьями белой акации далеко-далеко, до глубокого оврага, за которым через несколько лет сделают пристань для моторных и парусных лодок.
Это поле я запомнил цветущим, с большими желтыми головками, поворачивающимися за солнцем, и как ни стараюсь, не могу припомнить его другим, ни с уже поспевшими черными головками, ни, тем более, в голой стерне.
Я довольно долго был почти самым маленьким среди ребят в классе. И когда жил в Мукачево, и когда мы переехали на Днепр.
Сказать по правде, этот факт меня не очень волновал, но все-таки было не очень приятно чувствовать пренебрежительное отношение к себе одноклассниц, которые, уже не скрываясь, крутили романы с ребятами на класс, а то и на два старше.
Девушки и выглядели значительно старше нас. У них и фигуры были почти женские, по крайней мере, у некоторых из них.
А ребята значительно отставали и в росте, и в физическом развитии. Но после восьмого, а особенно после девятого класса мальчишки вдруг сразу пустились в рост, как грибы после дождя, как будто их, действительно, кто-то окропил сверху святой водицей.
Особенно это было заметно после летних каникул, когда через три месяца разлуки мы встречались в нашем «ботаническом» классе.
После восьмого класса я тоже подрос, но не так чтобы очень, просто не отстал от других. Зато после девятого я прибавил значительно.
Видно, сказались дни, проведенные на весельной лодке, когда я, подчас не разгибаясь, греб по много часов кряду. Я не только вырос, но и раздался в плечах, а на ладонях у меня еще долго не сходили твердые фасолинки мозолей.
Именно эти мозоли, а не кокетливые взгляды девушек значили больше для моей самооценки.
Теперь я уже мог смотреть на своих одноклассниц сверху вниз, потому что стал выше любой из них. И это было довольно приятное и еще непривычное состояние.
Но ни это обстоятельство, ни переезд на Спецстрой в новую квартиру, ни новые мои одноклассники не могли по-настоящему отвлечь меня от той задачи, которую я поставил перед собой уже пару лет назад и всеми силами стремился ее исполнять.
Я потихоньку привыкал к той телесной оболочке, которая досталась мне по наследству от отца с матерью, но к которой я тоже приложил свои усилия многолетними физическими занятиями.
Я получился среднего роста, тонкокостный, с сухими, поджарыми ногами, впалым животом и хорошо развитым торсом. Таким мне предстояло пробыть еще лет сорок.
Наверное, вместе с физиологическими изменениями, произошло и изменение психики, для меня самого незаметное.
Мне кажется, я стал менее стеснительным и уже почти не испытывал затруднений в общении с незнакомыми людьми, особенно с девушками.
А скоро мы стали самыми старшими в школе, несмотря на то, что кроме наших одиннадцатых были еще и десятые классы. Кроме того, оказалось, что почти всю учебную программу мы успели пройти за первое полугодие. Только по физике и математике были уроки почти по институтской программе, а все остальные предметы мы просто повторяли.
Ляся
В начале учебного года в классе на задней парте среднего ряда появились две похожие друг на друга девочки с хвостиками. В одну из них я влюбился, но не сразу, а как-то постепенно. Помню, на уроке физкультуры мы играли в волейбол, разделившись на две смешанные команды – мальчики с девочками. Она была в другой команде, и неплохо играла. А я играл так себе: то совсем никуда, то проходили неожиданно лихие удары. В ту игру мне удался сильный удар, мяч перелетел через сетку и попал ей в лицо.
Очки полетели в сторону, и я увидел ее лицо, такое беззащитное без привычных стеклышек, что мне стало ее ужасно жаль.
Вот тогда я и понял, что влюбился. Нельзя сказать, что она была красива: нос – пипочкой, светлые конопушки, и очки с позолотой. Звали ее Ляся Шишкина. Вернее, ее звали Лариса, но еще в детстве она стала называть себя Ляся. Такого имени я больше никогда не встречал.
Она была смешлива, но не по-глупому – училась она хорошо и закончила школу с золотой медалью – а от переполнявшей все ее еще девчоночье существо радости жизни и какого-то веселого задора. Ляся казалась мне очень естественной своей еще не сформировавшейся тоненькой фигуркой, легкой и подвижной рядом с некоторыми нашими одноклассницами, уже по-женски развитыми, и от этого казавшимися мне тяжеловесными и неуклюжими.
По своему обыкновению, я робел перед ней, и ни за что бы не признался, что испытываю какие-то особые чувства, кроме дружеской симпатии. Так, раздираемый внутренними противоречиями, я прожил еще один год.
Когда мы получили квартиру на Спецстрое, я мог торжествовать вдвойне. Мало того, что здесь жили все мои теперешние приятели, но и совсем рядом находился ее дом. Я даже мог видеть ее окна, не выходя из своей квартиры, стоило только зайти в комнату сестры и отодвинуть занавеску. Но нет, этого мне было мало. И я устремлялся на улицу и в темноте маячил перед ее окном, дожидаясь, чтобы мелькнул в нем заветный силуэт.
У меня до сих пор сладко замирает сердце, когда я вспоминаю ее тоненькую фигурку за окном и серебристый блеск листьев пирамидальных тополей, и теплый ветер, и гудки далеких пароходов на штормящем море. Я уходил, когда гасло ее окно.
Потом еще бродил допоздна по затихшим улицам, забирался в парк и услышал первого в своей жизни соловья. Для того чтобы удостовериться, что это, действительно, был соловей, я еще засветло подкрался к поющей птичке почти вплотную и увидел ее, невзрачную, коричневатую сидевшую на ветке слегка сгорбившись, но издававшую удивительно громкие красивые трели.
И тогда я решился. Я пригласил Лясю на свидание. И мы вместе слушали, как поет соловей. И … ничего не произошло. Наверное, я был очень неуклюжий ухажер. Больше того, и свиданий больше у нас не получалось, и девушка, относившаяся ко мне если не с приязнью, то во всяком случае без предубеждения, начала вдруг сторониться меня.
Так продолжалось довольно долго. Мы окончили десятый класс и перешли в одиннадцатый. Мы бывали в общих компаниях и даже отправились однажды в двухдневный поход на моей лодке, но я постоянно чувствовал холодок в ее взгляде, и мне очень хотелось его растопить.
К тому времени мы уже довольно сильно изменились, даже чисто внешне, но мне по-прежнему хотелось добиться ее расположения.
И тогда я написал стишок, совсем не похожий на мои прежние опыты в этом жанре. Больше того, в отличие от безвестной судьбы своих прежних опусов, я показал его девушке.
И у меня получилось. Наладились с ней теплые, доверительные отношения, как ни с одной девушкой из моего бывшего класса.
В конце апреля 1967 года я первый раз летел на самолете. Наш Ту-104 легко взмыл в серое туманное небо. Когда он накренился, делая поворот, я увидел через крыло отсыревшую землю с грязными клочками снега по оврагам, темный лесок, и вот все уже исчезло в белых облаках тумана.
В киевском аэропорту «Борисполь», пахнувшем на меня мокрым от недавнего дождя теплом, я сел в маршрутный автобус и с удивлением наблюдал проносящиеся мимо совсем по-летнему зеленые рощи и высокую траву по обочинам.
В институтском общежитии я встретился с Лясей, оставил сумку и совсем не нужные теплые вещи, и мы отправились бродить по чудесным улочкам Киева.
Мы гуляли по Крещатику и любовались знаменитыми, начинающими расцветать каштанами. В сквере перед памятником Богдану Хмельницкому синели высаженные к предстоящим праздникам гиацинты, и их густой и пряный аромат буквально пропитывал воздух.
Мы не целовались и не держались за руки, но мы были близки тем далеким теплым вечером, как никогда больше. Но это была уже не та тоненькая девчушка-хохотушка, а взрослая девушка, скорее даже печальная, чем веселая.

