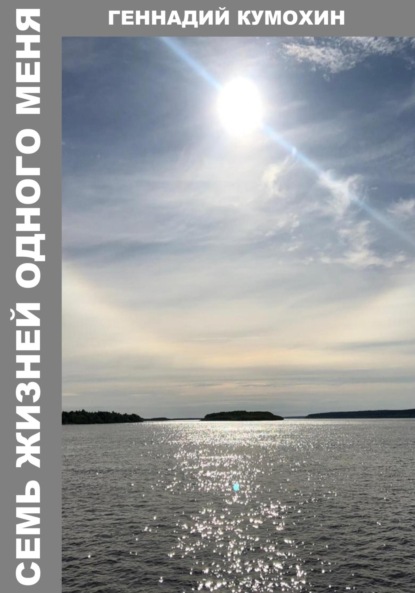
Полная версия:
Семь жизней одного меня
Моему «старику» не было и сорока лет, и ему предстояла еще очень долгая в полвека жизнь. Мы не умерли, а вышли из этого проклятого поля. Солнце уже явно клонилось к закату. Заросли кукурузы расступились, и мы вышли на проселочную дорогу. Колючая поросль вдоль реки тоже закончилась, и через Латорицу пролегал деревянный мост.
За дорогой был самый настоящий лужок, с недавно скошенной травой и стожками сена, собранными заботливыми руками. Моментально сбросив одежду, мы оказались в реке. Мы по очереди через мою кепку пили теплую мутноватую воду, и, казалось, я в жизни не пробовал ничего более вкусного.
Дальнейшее было просто: вдоволь накупавшись, я отыскал червяка в глине у берега, и скоро у нас в руках оказалось штук пять небольших окунишек, очень подходивших для ухи, которую отец споро приготовил в испытанном закопченном котелке. А потом мы еще долго сидели у догорающего костра и уже со смехом вспоминали выпавшее на нашу долю приключение. Мы немного примяли пару соседних стожков и легли поверх пахучего сена, запрокинув головы и глядя на темное бархатное небо с неисчислимым количеством сияющих звезд. У меня было ощущение, что я впервые заглянул в вечность.
Поездка на Днепр
Наш переезд на Днепр не был спонтанным, а готовился, по сути, очень долго. В течение нескольких лет в разных местах этой великой реки успели побывать все, кроме сестренки, которая все еще оставалась маленькой. А вот как в первый раз увидел Днепр я.
С весны на строительство Кременчугской ГЭС уехал отец, а в средине лета он сообщил, что ждет нас с мамой. И мы поехали, но не обычным способом, а на автобусах, которые перегонялись на капитальный ремонт в город Павлово-на-Оке, кстати, на родину отца. Но мы не собирались ехать до конца маршрута, а планировали добраться только до Киева.
Автобусов было три, они были старые и без конца ломались. Тогда все останавливались, и водители сообща устраняли неисправность. А потом все вместе трогались снова. Карпат я не заметил, очевидно, мы проехали их еще в первую ночь. Я запомнил медленное движение по равнинной Украине, ее бесконечные поля с уже желтеющей пшеницей и аккуратные хатки сел, утопающих в густой зелени деревьев. На третий день движения мы подъели все припасы, которые мама приготовила в дорогу и, главное, выпили всю воду. Как назло, очень хотелось пить.
И тут мы проехали мимо села, в одной их хаток которого почти на дорогу свесились ветки с красными ягодами. Мама попросила водителя остановиться, мы вышли из автобуса и направились к стоящей рядом с домиком хозяйке.
– Продайте нам ягод, – попросила мама.
– Та берить скильки завгодно задарма, – приветливо ответила хозяйка.
Я буквально набросился на склонившиеся к земле ветки, унизанные спелыми крупными ягодами. Это оказались не черешни, как мы думали, а вишни. В Закарпатье они не росли. Вишни мне очень понравились, но, когда я съел их достаточно много, у меня буквально свело скулы.
– Это называется, «набить оскомину», – прокомментировала мое состояние мама, – ничего, скоро пройдет.
В Киеве мы проехали по главной улице города.
– Это Крещатик, Геночка, – сказала мама, – такая красота, а мы тут тащимся на своих тарантасах. Неудобно даже.
Я во все глаза разглядывал непривычно высокие и красивые здания. На пристани мы купили билеты на пароход. Он был под завязку забит пассажирами. На верхних палубах стояли покрытые тканью плетеные корзины, от которых маняще пахло клубникой. Когда мы будем жить в Светловодске, я успею изучить маршруты пароходов, везущих ароматную ягоду. Сначала с юга, вверх по течению, а потом в противоположную сторону, когда начнет созревать клубника в более северных районах. Эта первая поездка на пароходе запомнилась мне тем, что ночью я скатился на чемодане вниз по крутой лестнице, рядом с которой меня уложила мама, за неимением другого подходящего места. И ничего, обошлось без последствий. И еще скандалом в ресторане, когда повара поймали за тем, что он подливал в котел с готовым борщом сырую речную воду.
Наконец, мы встретились с отцом. Позже я так и не смог отождествить, где же на самом деле он тогда жил. Помню только, что это было настоящее село с белыми домиками под соломенными крышами, и вездесущий песок, который не только лежал под ногами, но ввиду недалекой гигантской стройки постоянно висел в воздухе и норовил забиться в глаза, нос и уши.
Когда мы приехали, отец заявил, что блесен у него больше не осталось, но рыбалка здесь такая, что и без спиннинга, можно наловить на любую уху. Червей, как я ни старался, мне накопать не удалось. А потом оказалось, что это и не нужно. Импровизированной удочкой из тонкой ветки тальника на катышек хлеба я поймал верхоплавку. А затем на ее глаз – приличного окуня. И пошло – поехало. Через час рыбы набралось достаточно. А тут еще поблизости обнаружился крохотный ручеек, впадающий в Днепр, с переползающими по мелководью рыбешками. Там мой улов пополнился щуренком и незнакомой мне черной, похожей на толстого ужа рыбой, в которой отец признал угря. Мама потом долго ворчала: его режешь, а он пищит.
К сожалению, все прелести днепровской рыбалки не перевесили тогда в глазах мамы неудобства предстоящей сельской жизни. Поэтому в тот раз мы вернулись обратно в Мукачево. Скоро строители достроили плотину, и началось заполнение рукотворного кременчугского моря. Огромное водохранилище затопило множество плодородных земель, сел и даже такой город, как Новогеоргиевск. Но всего этого я уже не видел, да и не осознавал, потому что был всего лишь десятилетним пацаном. Но в памяти у меня навсегда осталось: бескрайний простор, белый песок и голубая прозрачная вода. К сожалению, этого уже больше никто не увидит.
День сурка
Мне запомнилась одна удивительная по своей повторяемости смена погоды в Закарпатье. Летнее утро. Теплое, погожее. Вся природа выглядит какой-то особенно чистой и приветливой. Так и хочется улыбнуться всему на свете.
После завтрака начинает по-настоящему пригревать. И всех, от мала до велика так и тянет на городской пляж. Разумеется, тех, кто не занят работой, или тех, у кого, как и у меня, продолжаются летние каникулы.
На пляже – не протолкнуться. Собственно, пляж в нашем городке, это небольшой клочок зеленой травы в низинке, образованной излучиной реки за большим городским парком.
Речка здесь совсем мелкая. По крайней мере, со стороны пляжа. В ней прощупывается крупная галька, а иногда, особенно когда в горах давно не было дождей и уровень воды пару недель не повышался, дно успевает покрыться нежной пенкой ила, в котором так весело барахтаться совсем еще мелкой ребятне. И только у противоположного берега проходит стержень течения, и там гораздо глубже. Пожалуй, по грудь взрослому человеку.
Когда я был еще совсем маленьким, я даже умудрился там чуть не утонуть. Это было в тот день, когда я пришел проведать одного из наших Рексов к маминой коллеге, живущей на противоположном берегу Латорицы. Рядом с ними работала фабрика, на которой давили подсолнечное масло, и поэтому все вокруг, и даже на пляже удивительно приятно пахло. На обратном пути мы с ребятами вышли на берег реки, как раз напротив пляжа. Мальчишки были постарше меня и тут же полезли в воду, а следом за ними и я. Но я еще не умел как следует плавать и только-только проплывал несколько метров по-собачьи. Меня подхватило течение и, вместо того, чтобы оказаться на мели напротив пляжа, я оказался гораздо ниже. Я стал на ноги, но погрузился почти с головой.
И тут я испугался… Меня подобрала лодка перевозчика, которая курсировала как раз ниже по течению. С тех пор я научился уверенно держаться на воде, но еще долго не любил вспоминать этот случай, справедливо полагая, что выглядело все ужасно глупо.
Время медленно течет, и к обеду становится все жарче и даже по-настоящему душно. Поэтому никто и не думает уходить с пляжа. Но тут на западе, на том отрезке горизонта, который единственно не закрыт выступающими с трех сторон невысокими горами, начинает формироваться темная, почти фиолетовая туча. Постепенно она все растет и занимает теперь уже значительную часть неба. Видно, как она угрожающе клубится и между ее частями проскакивают сверкающие молнии. Некоторые, наиболее предусмотрительные отдыхающие начинают собираться домой, но только не мы – мальчишки. Мы будем сидеть в воде до последнего, и только когда от порывов ветра по воде побежит мелкая рябь, а в воздухе запахнет скорым дождем, мы опрометью помчимся с пляжа, надевая на ходу рубашонки и короткие штанишки. Кто-то успеет добежать до дома почти сухим, а кого-то накроет с головой хлынувший как из ведра тропический ливень.
Постепенно ливень переходит в обычный дождь, а тот – в легкую изморось. В это время хорошо сидеть дома у окна и смотреть, как за окном медленно сгущаются сумерки. Все. Пора спать.
А завтра опять ясное солнышко и умытая листва. Потом пляж и полуденный солнцепек. Затем опять фиолетовая туча на горизонте. И бушующие потоки с неба.
А напоследок дня – ленивые капли в водосточных трубах:
– Кап – кап.
И опять:
– Кап – кап.
И так изо дня в день. Много раз подряд. Вот что такое настоящий «день сурка».
Лепестки сакуры
В детстве мне особенно нравилась Первомайская демонстрация. В Мукачево в это время года всегда было по-летнему тепло. Мы ходили колонной в черных сатиновых трусиках и белых маечках, всегда по одному и тому же маршруту, и я с замиранием сердца ожидал, когда же наша праздничная колонна пройдет по улице Московской, где в это время всегда цвели высокие деревья сакуры и вся мостовая была усыпана розовыми лепестками.
Я узнал, как называются эти деревья только недавно, когда начал смотреть в интернете фотографии цветущих деревьев. Мама называла их «китайская роза», но это было неправильно. Китайская роза – это гибискус, у которого цветы красивые, но совсем другие. Они цветут только один день, и китайская роза – это кустарник, а не дерево.
Сакурой называют деревья семейства розовых, подсемейства сливовых (вид – вишня мелкопильчатая), цветы которых исполняет чисто декоративную функцию, то есть не дают плодов.
Когда задувал легкий ветерок, тысячи розовых лепестков пускались в свой последний полет. Иногда мне снится далекое детство, где самое трогательное воспоминание связано с этим полетом. Кажется, и сам я лечу, и так больно и сладко сжимается сердце, и хочется плакать, и я просыпаюсь, и снова утыкаюсь в подушку для того, чтобы вернуть этот сон.
Мое детство с каждым годом отдаляется все дальше и дальше, и с каждым осознанным стремлением вспомнить его, рассыпается и улетает, как те лепестки.
Охота в Закарпатье
Поздней осенью, еще до рассвета мы с отцом вышли из автобуса за селом Пестрялово. Стоял густой туман, и редкая машина, проходившая за соседним пригорком, сначала высвечивала причудливый столб света, бьющий высоко в небо, и только потом доносился звук ее мотора, а затем появлялось смутное очертание кузова.
Мы зашли в виноградники, и размокшая земля сразу облепила наши сапоги тяжелыми комьями. В довершение с рассветом пошел холодный осенний дождь. Он казался бесконечным, и скоро наши телогрейки набухли от влаги и сделались вдвое тяжелее. Но сколько бы мы не ходили вдоль виноградников, ни одного зверька даже не увидели.
– Нет, – сказал отец, когда мы совсем выбились из сил, – в такую погоду заяц сидит плотно и выскочит только в том случае, если мы на него наступим. А это, сам понимаешь, случается очень редко. Делать нечего. Давай-ка мы с тобой перекусим, а там посмотрим, что делать дальше.
В поисках подходящего укрытия, мы набрели на одинокий сарайчик. Он был доверху забит сухими поленьями, поэтому укрыться от дождя в нем не удалось. Зато поленья прекрасно годились для костра, который мы развели с подветренной стороны строения. Прячась за стенкой сарайчика, мы развесили для просушки наши телогрейки и принялись за приготовленные мамой бутерброды. Дождь все не прекращался, и спешить нам было некуда.
Отец принялся рассказывать свои бесконечные истории, а я внимательно его слушал. Некоторые истории я знал уже чуть ли не наизусть, но мне все равно приятно было их слушать. Время от времени, мы проверяли, достаточно ли высохли наши телогрейки. Ждать пришлось довольно долго. Все это время мы с отцом, не таясь, громко разговаривали и, когда собрались уходить, время уже перевалило за обеденное. Мы затушили костер, проверили, не остался ли за нами мусор, и пустились в обратную дорогу.
У нас был строгий, годами проверенный порядок движения на охоте. Отец всегда шел впереди с ружьем наперевес, держа его дулом влево, а я шел справа и немного сзади. Так было нужно, чтобы случайно не попасть под выстрел отца. Но едва мы тронулись, как буквально из-под ног выскочил заяц и помчался вдоль проволочной изгороди.
– Это он специально поближе прискакал, чтобы послушать наши россказни, – говорил довольный отец, засовывая добычу в свой видавший виды, сохранившийся еще со времен войны брезентовый вещмешок.
В автобусе, который вез нас в город, редкие пассажиры недовольно на нас оглядывались и к чему-то принюхивались. Ничего не подозревая, мы пришли домой и были встречены недоуменным возгласом мамы:
– Вас что, специально прокоптили?
И только тут мы почувствовали, что от нас ощутимо тянет дымком. Как обычно, мама поила нас чаем, а мы наперебой рассказывали ей о наших приключениях. После этого я умылся, даже голову помыл, но все равно, в школе еще несколько дней замечали, что от меня пахнет гарью.
Накануне охоты отец священнодействовал: доставал свой заветный ящичек, в котором хранились запасы пороха, дроби и пистонов, и собственноручно заряжал патроны. Покупные картонные заряды он не признавал, снисходительно называл их «пукалками» и насыпал в многоразовые латунные гильзы полуторную норму пороха.
В результате в сезон охоты и он сам, и я ходили с отметинами на средних пальцах правой руки, а я иногда и с припухлостью правой щеки, которые образовывались в результате жестокой отдачи отцовского ружья. По заведенной традиции, после окончания охоты я расстреливал газету, в которую мы заворачивали наши съестные припасы. Сначала я был еще мал, чтобы держать ружье на весу, поэтому отец сооружал для меня бруствер, чтобы я мог стрелять лежа. Через год – другой я уже мог стрелять, стоя на одном колене, и только спустя еще какое-то время стрелял из отцовского ружья, стоя в полный рост. Отец заразил меня духом неутомимого скитальчества, и не было в радиусе километров десяти от города такого места, где бы мы с ним не побывали
Озеро «Военное»
На самом деле это было даже никакое не озеро, а просто пруд, в котором вода от небольшого ручья скопилась после строительства земляной дамбы в самой низкой части небольшой ложбины между двумя пригорками. Военные строители соорудили дамбу, построили небольшой домик и поселили туда сторожа, в обязанности которого входила не столько охрана, сколько сбор платы с рыболовов –любителей за посещение озера. Озеро «зарыбили» серебристым карасем и карпом, а пескари развелись в нем самостоятельно, в качестве бесплатного приложения.
Вот этими–то пескарями и ограничивался наш улов на первых порах. Так продолжалось до тех пор, пока я не начал всерьез интересоваться рыбной ловлей, и, для начала, обходить более удачливых рыболовов и выспрашивать, как и на что они ловят карасей. После этого мы поменяли наши снасти, заменили червей на тесто и перловку и ушли с дамбы в более привлекательные для карасей окрестности.
По весне это было самое узкое и мелкое место, куда впадал ручей, который еще только собирался стать озером. Вода здесь прогревалась быстрее всего. Это и привлекало рыбешек ранней весной. Уже в начале апреля карасики заходили сюда и набрасывались на любой корм, для того чтобы потом, месяц спустя у них хватило сил на нерестовые безумства. Совсем маленьким мальчишкой я наблюдал бесшабашное карасиное поведение, еще и не подозревая, что это и есть всеобщее следствие любви. Обычно осторожные в период нереста рыбешки совершенно переставали обращать внимание на человека и отчаянно барахтались в траве у самых моих ног. Мне стоило больших усилий, чтобы не поддаться соблазну и не попытаться схватить руками хотя бы парочку карасиков. Но нет, я знал, что делать это ни в коем случае нельзя. И крепился до последнего.
Зато как приятно было приехать сюда с отцом или одному чудесным апрельским деньком, закинуть удочки, и, блаженно щурясь под ласковым весенним солнышком, подставить ему свои худенькие мальчишеские плечи. Каждую весну, вплоть до поступления в институт, я успевал загорать так, что после этого никакие летние солнечные ванны не могли мне причинить никакого вреда. И только посреди первой летней сессии, когда я отправился на Пироговское водохранилище и целый день провел на весельной лодке – вот тогда я по-настоящему обгорел в первый раз, чему несказанно удивился.
В предчувствии долгожданной весенней рыбалки, каждый раз, выходя в «военный» лес за первоцветами, которые мы без разбора называли «подснежниками», я неизменно делал порядочный крюк и заходил на озеро. Лиловые крокусы начинали появляться в Закарпатье в двадцатых числах февраля, когда на озере еще лежал потемневший лед, а ручей был почти сух и недвижим. Как-то раз я вытоптал резиновым сапогом приличную ямку в том месте, куда в апреле поднималась вода и была средина узкой протоки.
В тот апрель среди взрослых рыболовов проводили соревнование. Я приехал на велосипеде один, отдал деньги и отцовский охотничий билет сторожу – одноглазому Игнату и отправился на привычное место. Вокруг было много рыбаков. Каждый забрасывал по несколько удочек. Но клевало почему-то только у меня и притом только на одну удочку. Я не сразу сообразил, что закидывал ее именно в ту ямку, которую проковырял в конце зимы своим сапогом. Когда я собрался уходить и снова зашел к Игнату, он посмотрел на моих карасиков в садке и сказал:
– Зря я не записал тебя в число участников соревнования. С таким уловом ты был бы победителем.
Лес Форнош
В начале лета мы собрались в лес по грибы. Мы, это я, моя сестренка Иринка, четырех с небольшим лет от роду, и наш сосед Мишка со смешной фамилией Болото. Он еще дошкольник. Старшим был я. Мне еще не исполнилось восьми лет, но я уже окончил первый класс и считал себя достаточно взрослым. Родители, видимо, не сомневались в моих возможностях, поэтому отпустили нас втроем без сопровождающих.
Сначала мы пришли в так называемый «военный» лес. Он весь перекопан старыми и более свежими окопами. Говорят, иногда здесь проводят учения и гремят разрывы. Тогда вокруг леса выставляют охрану. Не знаю, не видел. Но ведь с конца войны прошло всего десять лет. Лес был буковый, взрослый, без подлеска. Травы здесь тоже было мало, поэтому в нем было видно далеко. Если бы были хоть какие-нибудь грибы, мы бы их сразу заметили. Однако грибная пора еще не наступила. Не было даже вездесущих поганок и мухоморов.
Убедившись, что здесь грибами и «не пахнет», я повел свою маленькую команду в соседний лес, который все называли Форнош. Мы шли по проселочной дороге вдоль «военного» леса. Слева от нас находилось «военное» озеро, а на самом деле пруд, который сформировала земляная плотина.
Однажды эта плотина рухнет, и от озера ничего не останется. К счастью, это произойдет еще очень нескоро. «Военный» лес, протянувшийся довольно узкой полосой километра на три, плавно переходил в Форнош. Это сразу было заметно по характеру леса. Здесь росли не только буки, как в «военном» лесу, но и высокие раскидистые дубы, сосны и еще много других деревьев, породы которых я тогда не знал.
Только грибов мы не нашли и здесь. Но это меня нисколько не расстроило, ведь впереди была еще большая часть прекрасного времени, называемого летом.
Мы как следует перекусили и вполне довольные продолжали свой путь. Прошли довольно много, прежде чем вышли к удобному броду через злополучный ручей. Я перенес сестренку, а Мишка перешел сам. Наконец мы вышли из леса, и вдалеке я увидел село, которое показалось мне знакомым. Судя по всему, это было Лалово.
То, что я узнал Лалово, было и хорошо, и плохо. Хорошо потому, что я твердо знал, куда нам идти, а плохо, по той причине, что до дома было далеко. Однако времени у нас было еще много – солнце едва перевалило зенит. Правда, все уже порядочно устали и хотели пить. И тут мы подошли к подножию невысокой пологой горки.
Такие горушки здесь называли «винницами». Они, обычно, были сплошь засажены виноградниками. На этой горке виноградника не было.
Я помнил ее. Однажды, когда выпал достаточно глубокий снег, мы катались здесь на лыжах. Она была самой близкой к Мукачево, и почти единственной, расположенной на равнине. Западнее от нее был только Паланок, со знаменитой крепостью на вершине. Но зато на этой горке мы обнаружили целую поляну созревшей земляники, на которую мы ту же с жадностью набросились. Ах, как это было чудесно.
Летнее тепло, солнечный свет, густой аромат зрелых ягод и их неповторимый вкус. Одним словом, мы эту землянику ели, потом начали баловаться, а потом, разомлевшие, даже задремали. Когда я открыл глаза, солнце уже заметно клонилось к горизонту. Я растолкал сестренку и Мишку, и мы поспешили домой.
Жаль только, что идти до него оставалось еще очень много. Чтобы выбрать наиболее короткий путь, мы взобрались на вершинку. Отсюда все окрестности были видны как на ладони. И горы на востоке, и равнина на западе, и сам город с черепичными крышами, но еще далеко. А дальше все было не очень интересно.
Когда мы, наконец, пришли домой, уже окончательно стемнело. То есть были не сумерки, а настоящая ночь. Я не знаю, как встретили Мишку, а нас с сестрой встретила встревоженная мама с мокрым от слез лицом. Отца не было.
На мой вопрос:
– Где папа?
Мама ответила, что он побежал в «военный» лес искать нас с ружьем.
Скоро пришел и отец, от него пахло порохом. Он сказал, что в лесу пару раз выстрелил, чтобы мы могли его услышать.
Что удивительно: я не помню, чтобы родители меня ругали. Видимо, сначала на радостях, а потом поняли, в чем было дело. Я рассказал родителям о нашем путешествии.
При моем упоминании о селе Лалово, отец удивленно воскликнул:
– Вон вы в какую даль забрались!
Мама хотела нас накормить, но мы наотрез отказались, заявив, что объелись земляникой.
Так закончился этот поход. Но сестренку я старался с собой больше не брать.
О национальном вопросе
Одним из самых запоминающихся детских впечатлений о Мукачево остается вид молодых цыганок, почти девочек, зимой. Они были одеты в разноцветное тряпье и ступали по редкому в этих местах снегу босиком. За спиной каждой из них находился, закутанный в клетчатый плед младенец. Все они были из находящегося неподалеку от города табора венгерских цыган.
И еще пара картинок из далекого детства.
К нам приходит настоящий персонаж из сказки Андерсена – трубочист. Весь в саже, в черном защитном костюме, черной шапочке и с мотком упругой стальной проволоки с жестким ежиком на конце через плечо. В городе едва ли не половина домов с печными трубами.
А утром, по выходным раздается протяжный голос старьёвщика:
– Цюря! Ряндя! – кричит дряхлый старикашка, сидящий на бричке, запряженной не менее древней, чем ее хозяин лошадкой.
После того, как по телевидению промелькнуло сообщение о том в ЕС, в связи с дефицитом удобрений, собираются переходить на использование продуктов жизнедеятельности человека, я вспомнил, как это было в Мукачево.
Однажды осенью к нам на Севастопольскую пришел чумазый цыган-ассенизатор и вывалил из стоявшего рядом туалета все его содержимое на опустевшие грядки в огороде.
Вернувшаяся после работы аккуратистка-мама была вне себя от негодования.
– Это же чистая зараза1 – в сердцах восклицала она, – я потом ничего есть не смогу с этих грядок.
Как я уже, кажется, уже вспоминал, в нашем классе в Мукачево были дети разных национальностей: русские, украинцы, местные (русины), венгры, но, пожалуй, больше было евреев.
Насколько я могу припомнить, было всего двое мадьяр. Так здесь называли венгров. Мокан и Матола. Их было так мало, возможно, потому, что на улице Кирова была венгерская школа.
И еще я помню, что ежедневно по городской радиосети два часа шли новости на венгерском языке.
Из интернета узнал, что восточноевропейских евреев именовали «ашкенази», и говорили они на идише. Идиш – это восточный диалект средненемецкого языка с большой примесью еврейских, тюркских, славянских и иных слов.
Немецкий язык нам преподавал настоящий немец – Морис Менделеевич, высокий, курчавый, темноволосый. Немцев среди детей в нашем классе не было. Правда, говорили, что где-то в другой части города довольно компактной группой проживали швабы. Морис Менделеевич был прекрасным преподавателем. Со словарным запасом и произношением, поставленным этим учителем, я имел твердую пятерку по немецкому не только в старших классах в Светловодске, но и в институте. На уроках немецкого по известной причине особенно выделялись наши евреи: Айзнер, Апфельдорфер, Розенфельд и другие. Все они были ярко рыжие. Высоких оценок в четверти по немецкому ни у кого из них не было. Дело в том, что Морис Менделевич практиковал не только разговоры исключительно на немецком на своих уроках, но и диктанты. Если разговорный язык у наших ашкенази был вне конкуренции, то самая высокая оценка за диктант была двойка, а чаще, вообще, единица, которые Морис Менделеевич с иезуитской жестокостью непременно выставлял в журнал.



