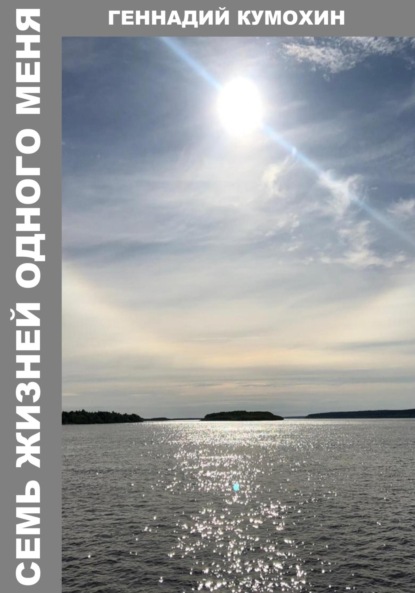
Полная версия:
Семь жизней одного меня
Одним словом, я сделал «бороду», да еще какую! На моей катушке оставалось совсем мало лесы, потому что вся она ушла в пресловутую бороду. О дальнейшем продолжении ловли не могло быть и речи. Дрожащими от волнения руками я принялся распутывать гигантский моток лески, но скоро понял, что только затягиваю, а не распутываю узлы. Замерзшими пальцами я с трудом собрал по берегу мелкий хворост и разжег костер. Делать было нечего. Я собрал манатки, и мы с позором отправились по домам. Это происшествие надолго отбило у меня охоту заниматься спиннингом.
Дядя Коля
Его звали Николай Брыжак.
Отец у дяди Коли был цыган, а мать – мадьярка, но по паспорту он числился русским. Таков был тогдашний мейнстрим. Его жена, тетя Вера, мамина сестра, была высокой, и, судя по старым фотографиям, красивой девушкой. Что заставило ее выйти замуж за маленького, носатого юношу, моложе себя на несколько лет, каким был дядя Коля, оставалось загадкой. У них родилась дочь Надя, моя двоюродная сестра. Я никогда не видел тетю Веру красивой, потому что несколько лет потребления морфия кого угодно превратят в развалину. Это была семейная тайна, о которой не принято было говорить.
Тетя Вера была откровенно неважной хозяйкой, если судить по качеству питания семьи. Однако дядя Коля любил свою жену, несмотря ни на что. Тетя Вера отправила дочку к родителям в село, а сама либо готовила редко, либо вообще ничего не готовила. Поэтому они жили впроголодь. Мама сочувствовала дяде Коле, но она не могла, конечно, приглашать его столоваться постоянно. Зато в тех случаях, когда ей случалось пересолить блюдо, приглашали Николая, и тот съедал все до крошки.
При всем при том жили Брыжаки значительно богаче нас. Их квартира была хорошо обставлена мебелью. В ней был холодильник, это в начале пятидесятых, и даже черно-белый телевизор. В телевизоре мы не очень нуждались, потому что передачи велись только на венгерском или чешском. Вещания на русском языке в Закарпатье не было вплоть до нашего отъезда. Что касается холодильника, то у нас его не было не только в Мукачево, но и все время жизни в Светловодске, аж до моего отъезда в институт.
Помню, еще когда мы приезжали в отпуск в Закарпатье, у дяди Коли уже был мотоцикл. Мне запомнился один случай. Мы загостились в Мукачево и опоздали на последний автобус, идущий в Русское. Решено было добираться на мотоцикле. Отец был прилично пьян, иначе он не пустился бы на подобную авантюру. Он сажал меня к себе за руль, а маму на багажник, но мы раз за разом падали, то просто на асфальт, а то в глубокий кювет. Чем закончилась эта история я не помню, но все остались живы. Скоро дядя Коля вместо мотоцикла купил машину, на которой, я не помню, чтобы он катал кто-либо из нас.
Вспомнил забавную историю, рассказанную отцом, о том, как дядя Коля охотился на уток. Не знаю, видел ли он, как отец стрелял уток в Грузии, или только слышал его рассказы, но дядя Коля тоже захотел стать охотником. Он купил одноствольное ружье и всю необходимую для охоты амуницию и пошел охотиться на соседний пруд. Отец рассказывал ему, что стрелять нужно только по летящим уткам, но дядя Коля не внял его советам. Когда он подкрался к воде, то увидел совсем близко плавающих селезней. Выстрел оказался удачным, потому что сразу несколько уток перевернулось кверху лапками. Пока он складывал добычу в мешок, к нему подошел хозяин, живущий рядом с прудом. В селе все знали друг друга, хотя, не могу сказать, что питали дружеские чувства.
– Ты зачем пострелял моих уток? – спросил хозяин.
– Это не твои, а дикие! – возразил ему дядя Коля.
– А ну, покажи! – настаивал тот.
На беду, среди пестрых уток оказалась одна белая. Пришлось дяде Коле платить за убитых домашних уток втридорога.
Новый толчок к возрождению моего интереса к спиннингу дал, как ни странно, дядя Коля. В отличие от охотничьих проблем, дела со спиннингом пошли у него не в пример успешно. Однажды тетя Вера угостила нас жареной щукой, которую намедни поймал ее муж, и это окончательно сломило наше недоверие.
Я почти с благоговением рассматривал снасти дяди Коли. Гибкое металлическое удилище, невиданная мною прежде катушка, называемая безынерционной, и тоненькая леска. А блесны: маленькие, с продолговатыми лепестками, надетыми на жесткую проволоку, они не колебались во время проводки, а быстро вращались вокруг своей оси. Поэтому и назывались – вращающимися.
Отец расщедрился и купил дорогущие удилище и катушку. Блесны я тоже нашел и в дальнейшем собирался делать их самостоятельно. Дело оставалось за малым – леской, она должна была быть тоненькой, но крепкой. Такой лески в магазинах не было. Дядя Коля доставал импортную леску контрабандным путем, но заломил за нее цену, по понятию отца, просто грабительскую – три рубля. Это при том, что в магазине отечественная леска стоила в несколько раз меньше.
Отец от предложения свояка отказался, и мне пришлось довольствоваться отечественной. Прошло еще несколько лет, прежде чем мне удалось приобрести импортное сокровище. Меня выручил случай. К нам в секцию гимнастики пришли модельеры из Москвы. Они искали подходящего мальчика, так как их ребенок заболел и остался дома. Из всей секции выбрали одного меня. Я не стал отнекиваться и только спросил, в каком классе учится их мальчик. Мне ответили, что окончил первый класс. А я уже перешел в седьмой. Тем не менее одежда мне подошла, я мужественно продефилировал несколько раз по импровизированному подиуму и в заключение получил вознаграждение размером в три рубля. Нисколько не колеблясь я отдал их новоявленном «гобсеку» и получил вожделенный моток лески.
А тогда, для того чтобы разузнать секреты ловли на спиннинг, я упросил дядю Колю взять меня на речку с собой. Честно говоря, никаких откровений я от него не получил. Почти все я знал либо из прочитанных книг и журналов, либо из собственного опыта. Единственно, что меня удивило, так это, как мы с ним завтракали. Я, как обычно, – бутербродом с маслом и колбасой. А он – кусочком хлеба с половинкой острого перца.
Сливянка
Мама была отличная хозяйка. Уже в Грузии она не только растила двоих детей, но научилась вкусно готовить дичь, которую в изобилии приносил отец в сезон охоты. Но жизнь в Грузии, честно сказать, я помню довольно плохо, а вот пребывание в Мукачево запомнилось очень ярко. Помню, еще издали я чувствовал запах вкусной еды, которую готовила мама.
Отец был мясоед. Поэтому мама даже в национальный украинский борщ неизменно добавляла изрядный кусок мяса, как правило, с мозговой костью, которую отец любил со вкусом обгладывать своими крепкими белыми зубами. Даже пельмени, которые она лепила сама, мама варила на мясном бульоне обязательно с косточкой. Пельмени мы всегда ели как суп, а отец заканчивал еду мозговой косточкой. Одним из любимых наших блюд были жареные пирожки. Отцу больше нравились пирожки с зеленым луком и яйцами, а мне эти и все другие: и с вареной картошкой, и жареным луком, и с капустой, и с ягодами.
Впрочем, не обходилось и без накладок, особенно, когда пытались освоить нечто новое. Так, отцу долгое время хотелось освоить изготовление «сливянки», то есть самодельного вина из слив. Я не знаю, кто больше приложил руку к этому напитку. Отец или мама, но эффект оказался просто ошеломляющим. Помню, подготовились к процессу изготовления наливки со всей тщательностью. Приобрели большую бутыль литров на двадцать, всевозможные резиновые трубки для отвода воздуха. Ну и все прочее.
Когда созрел урожай слив типа «угорка», зарядили аппарат и принялись ждать. После завершения процесса брожения, отец процедил полученный продукт и пригласил на дегустацию свояка – дядю Колю. Тот с удовольствием явился, и они употребили по паре рюмочек. Отец, у которого желудок был более чувствителен отправился в «ригу» почти сразу. А дядя Коля долго крепился, но, когда он пришел на следующий день к маме весь зеленый и заявил, что умирает, мама поняла, что со «сливянкой» что-то не так, и отправила все содержимое бутыли на помойку. Помойка в виде выгребной ямы была устроена под забором в глубине нашего участка. Дело было уже глубокой осенью, все фрукты и овощи уже давно были собраны, и на помойке беспрепятственно копались наши куры, которых мама ласково называла «мои проституточки». Впрочем, это прозвище навряд ли можно было назвать справедливым, потому что петух на полтора десятка кур был только один.
Но зато какой! Огненно-рыжий, с переливами, красным гребнем и острыми шпорами – настоящий бойцовый экземпляр. Он держал в постоянном страхе не только детей, но и всех взрослых нашего двора. Бил безжалостно острыми шпорами и крепким клювом. Приходя домой, я заранее брал портфель в левую руку и защищался им как щитом, а в правой руке сжимал палку, которой только и можно было отбиться от несносной птицы.
И вот, поклевав на помойке остатки от так называемой «сливовицы», наутро сдохли все куры. Все до единой, во главе с петухом.
Только тогда родители поняли, какой опасности они себя подвергали. А наливку отец больше не пытался делать, по крайней мере, еще лет десять.
Инвалид
Едва Гринько уехали из пристройки возле нашего дома, как в ней появились новые жильцы. Это опять была женщина с двумя детьми. Мать была местной, неопределенного возраста и выглядела как-то изможденно. Дочка по имени Павлина была моей ровесницей, а сын Иван был тремя годами ее младше. Они жили в пристройке некоторое время втроем. А потом у матери появился сожитель. И он сразу почувствовал себя хозяином.
Это был рыхлый альбинос с поросячьими глазками в белесых ресницах, наглый и ленивый. Однажды он так объявил моей маме, почему не работает:
– Я инвалид.
И хотя потом он устроился куда-то охранником, это прозвище так к нему и приклеилось: «Инвалид». Я не знаю, что творил он у себя дома, но даже во дворе, так сказать «на людях», его поведение вызывало у меня бешеный протест. Инвалид измывался над бедным Ванькой и заставлял без конца выпрямлять гвозди, которые он откуда-то доставал в неограниченном количестве. Бедный мальчишка был забит до крайней степени и постоянно ходил в синяках.
Однажды мы встретились во дворе. Двери наших сараев находились совсем рядом. Я стоял перед дверью и колол дрова. А Ванька, как обычно, правил гвозди. Вышел Инвалид и принялся учить мальца.
– Иванэ, нэ так цэ робиш!
Дальше я не берусь передать его слова прямой речью, поэтому перескажу смысл. Мол, непослушных детей следует учить. Вон твоего соседа Гэну мать в детстве мало лупила…
Тут он прервал свою тираду, потому что увидел, что я оставил свое полено и молча, с топором в руках, направился к нему. Инвалида как ветром сдуло. Он остановился только за своей дверью и боязливо из-за нее выглядывал.
Оказывается, он был еще и трус. И кого испугался? Десятилетнего пацана. Исподтишка он даже шпионил за мной. Однажды, много лет спустя, сестра показала мне фотографию длинноногого и тощего мальчишки, склонившегося над кустом смородины.
– Узнаешь? – спросила она.
– Кто это? – я недоуменно пожал плечами,– лица ведь не видно.
– Это Инвалид тебя фотографировал. Я взяла только одну карточку.
О том, как мы уезжали, я расскажу в одном из следующих клипов, а сейчас завершу свою историю шокирующей информацией.
Через несколько лет мы узнали, что Павлинка родила двойню в неполных семнадцать лет. Кто был отцом так и осталось неясным, потому что ей вроде как ни с кем не разрешали встречаться.
Папиросы «Казбек»
Сегодня ночью мне приснился сон о том, что я как будто снова курю.
Причем это было так правдоподобно, словно я на самом деле пускал дым, и мне это было не неприятно. И тогда я вспомнил связанный с курением случай из далекого детства, который характеризует меня, увы, не лучшим образом, но зато мама в нем такая, как была на самом деле.
Мне едва исполнилось семь лет, но мы уже живем на Севастопольской улице. Я стащил из ридикюля у мамы три рубля и купил папиросы «Казбек». Видимо, это было престижно среди мальчишек моего возраста – курить папиросы «Казбек». Там, где на коробке изображен горец, скачущий на фоне снежных гор. Одним словом, сижу я, гордый собой, курю у всех на виду, за забором соседней воинской части, покачиваясь на толстой ветке растущего там куста.
Вдруг, вижу, идет с работы моя мама. Я с испуга даже с ветки свалился. А она подошла, как ни в чем не бывало, позвала меня, и мы вместе пошли домой. Нет, она меня совсем не ругала, просто говорила со мной, как с совсем взрослым.
– Понимаешь, сынок,– сказала она тихим голосом, – вот, ты взял у меня без спроса три рубля. А ведь это очень плохо, это воровство. Но хуже всего то, на что ты потратил эти деньги. Ладно бы на булку или конфеты, это я еще могла бы понять, но покупать на ворованные деньги папиросы – это совсем плохо. Пожалуйста, больше никогда так не делай.
Я дал ей слово, но сдержал его только на половину. Я старался никогда больше не брать ничего чужого, а свое обещание не курить я не сдержал. Я покуривал, за компанию с мальчишками в детстве, и в лесу, и на рыбалке, и в школе. Иногда и в институте, но чаще всего – в армии.
Здесь я курил, можно сказать, по необходимости. Летом в самолете было жарко, температура под пятьдесят градусов. А под самолетом, на ветерке, значительно прохладнее. Всего каких-то сорок. Собирается на перекур весь наземный экипаж «сорок восьмого», а вредный Тимка, старший техник нашего самолета, говорит:
– Ты, Кумохин, некурящий, так что не сачкуй, иди работай.
Приходилось закуривать. Зато, как только я демобилизовался, больше не курил ни разу. Вот уже почти сорок пять лет.
Три Рекса
Где-то я читал, что животные часто бывают похожи на своих хозяев.
В Закарпатье, как только появилась возможность, у нас один за другим были три кобеля, каждого из которых звали Рекс. Причем, каждый раз отец брал маленького щенка, а потом вырастало… – словом, то, что вырастало.
Первый Рекс вымахал огромным зверюгой, который как легкую щепку таскал по двору тяжеленную будку, к которой он был привязан.
Зато на нем мы запросто могли прокатиться, как на жеребце или запрячь в санки с несколькими ребятами. Однажды, разбаловавшись, он проглотил мою кожаную варежку. Мы с тревогой ждали, не навредит ли это собаке, но через пару дней нашли пропажу, правда уже в совсем непотребном виде. Так прошла целая зима, а по весне он научился отделываться от ошейника и убегать на целую ночь. После одного такого побега он уже не вернулся.
Второй Рекс был почти чистокровной гончей, но у нас он разъелся сверх всякой меры, поэтому головка у него стала казаться маленькой, а шея очень толстой. В результате ему ничего не стоило освободиться от любого ошейника. Для этого стоило ему чуть попятиться, и ошейник оказывался отдельно, а пес отдельно. Но он никуда не пытался убежать, а просто мирно укладывался рядом. Как только начался сезон охоты, мы с отцом взяли его в поле. Но тут он ничем себя не проявил.
До тех пор, пока мы не повстречали отару овец. И тут он, словно и был для этого предназначен, принялся с азартом сгонять овец в гурт. Старый чабан мигом оценил его способности и принялся просить отца уступить ему собаку.
– Ладно, – согласился отец, – берите, если он вам нужнее.
В конце охотничьего сезона мы снова встретились со знакомым чабаном. Вокруг стада деловито бегал наш Рекс, который нас совсем не узнал.
А третий Рекс вообще учудил. Он умел улыбаться. Рекс улыбался всем: и знакомым, и незнакомым. Вместо того, чтобы встречать чужих лаем. У родителей просто опустились руки. И тут сослуживица мамы, богатая еврейка, у которой был дом за рекой, попросила отдать третьего Рекса ей.
– Да, пожалуйста, – ответила мама, – забирайте.
Через месяц я зашел в тот дом проведать бывшего Рекса. Мне навстречу бросилась огромная, свирепо лающая псина.
Лазня
Совсем недавно я наткнулся в интернете на заметку о том, что в Древней Руси баню называли «лазня». И тут я вспомнил, что именно с таким названием висела в Мукачево вывеска на здании, в котором располагалась баня. Здание находилось на улочке, идущей влево от центральной улицы параллельно реке Латорице.
Какой она была в мое время, я, разумеется, не помню, а сейчас она называется улицей Рауля Валленберга. На месте бывшей бани сейчас расположен то ли банк, то ли кафе. Баня выполняла свои функции, видимо, задолго до прихода Советской власти в Закарпатье. Само здание было двух или трехэтажным, но я выше первого этажа никогда не поднимался. Все его помещения были выложены светлым кафелем.
В бане отсутствовал привычный для нас общий зал. Все моечные помещения были разбиты на индивидуальные комнатки, в которых установлены ванные и души. Нам в коттедж на Севастопольскую провели водопровод только в последние пару лет пребывания в Закарпатье, а все остальные годы в холодное время года, мы с отцом ходили в «лазню».
Больше всего мне нравилось ходить в баню в раннем детстве. Особенно, если отцу удавалось купить время в номере с двумя ванными. Помню, как тщательно он намыливал и оттирал щеткой кремово-белые, стоящие посреди помещения ванны, а затем заполнял их теплой водой. Пока он тщательно мылся в своей ванной, я успевал от души понырять в своей. Затем отец принимался за мое тщедушное тельце, и все хорошее в бане для меня заканчивалось. Ну, а в душевой вся романтика исчерпывалась стоянием под теплыми струйками воды.
Возвращаясь к далекому детству, замечу, что у старшего поколение местных, особенно на селе я вообще не замечал особой чистоплотности. Помнится, бабушка говорила, что отец ее зятя Николая вообще не мыл ноги ни разу в жизни. Однако давил виноградный сок на вино он всегда босыми ногами.
На пасеке
Я закончил второй класс с отличными оценками, и родители подарили мне детский фотоаппарат. Только успел вставить в него пленку и уже готовился приступить к своей первой, как говорят сейчас, фотосессии. Ездить в пионерлагерь я уже престал, и, как утверждала мама, слонялся без дела со своими приятелями. Тетя Лена Болото предложила мне поехать вместе со своим сыном на пасеку. Я согласился и предложил третьим взять нашего общего приятеля Сашу Рубанова.
В ближайший выходной мы втроем, в сопровождении тети Лены, погрузились в автобус и отправились в горы. Я не помню, было ли это село с одноименным названием Пасека, или это было другое село, но пасека там была точно. И это было в Карпатах.
Сразу по приезду в село мой фотоаппарат вызвал невиданный ажиотаж среди местных ребят. Каждый хотел сфотографироваться. Сначала в одиночку, а потом вместе с друзьями. На первых порах я был даже рад своей неожиданной популярности. Но через пару десятков снимков внутри фотоаппарата что-то хрустнуло, и я с огорчением понял, что моя фотосессия на этом завершилась. То ли пленка просто закончилась, то ли, что еще хуже, она оборвалась. В любом случае я понял, что больше ни одного кадра мне получить не удастся. Но желающих сфотографироваться ребят как будто и не убавлялось. Больше того, когда я попытался объяснить, что никого сфотографировать я больше не смогу, на меня стали сильно обижаться. Появились очень недовольные местные мальчишки, которые уже сжимали кулаки, и продолжением этого, вполне возможно, случилась бы драка. И тогда я совершил свое первое должностное «преступление».
Я продолжил фотосессию. Когда я сделал еще с полсотни щелчков фотоаппарата, количество желающих сошло на нет, и, даже не поинтересовавшись, когда будут готовы снимки, все энтузиасты разошлись. Правда, Рубанов заподозрил неладное и поинтересовался, как это мне удалось сделать так много снимков на одну пленку. И я ему честно во всем признался.
Когда мы пришли, наконец, на пасеку, я засунул свой фотоаппарат поглубже в сумку и больше о нем не вспоминал. По приезду домой, я все-таки проявил злополучную пленку, но оказалось, что она засвечена. Вся до последнего кадра.
Мы поселились в избушке пасечника, сооруженной в прямой видимости от ульев. Пасечник, дальний родственник или даже просто знакомый тети Лены, особой заботой о нас себя не утруждал. Он приходил нас проведать раз в день, приносил свежий хлеб и банку парного молока, проверял, все ли в порядке с пчелами, и отправлялся в село, где у него, очевидно, были более важные дела.
А мы всю неделю наслаждались абсолютной свободой. Мы купались в соседнем крохотном ручье, где из камней была сооружена небольшая запруда, в результате чего вода в нем доходила до колена. Регулярно питались. Пасечник оставил нам достаточно свежего меда из первой выемки, и мы объедались им, что называется, «от пуза». А со свежим хлебом и молоком это было просто пиршество. Ссорились, в силу различий в домашнем распорядке и привычках, мирились, в меру баловались. И вместе отбивались от пчел, когда те в обилии прилетали к нам, привлеченные запахом ароматного меда. Поначалу мы еще как-то реагировали на каждый довольно болезненный укус, а потом привыкли, и только не без ехидства посматривали друг на друга, замечая значительные изменения на наших лицах.
Когда на следующий выходной приехали наши матери, они нас попросту не узнали. Настолько мы стали похожи между собой – прямо родные братья, но только с явно азиатской внешностью. На наших мам смотрели одинаково опухшие физиономии, где для глаз сохранились только узенькие щелочки.
Кукурузное поле
В конце августа открылась утиная охота, и отца, который еще не успел окончательно отвыкнуть от охоты на перелетную дичь в Грузии, в бытность свою начальником заставы в Шекветили, неудержимо потянуло на утиную тягу. По непроверенным слухам, подходящая местность была где-то на равнинной западной части Закарпатья. И вот мы высадились из утреннего автобуса в поле за Великими Лучками, в надежде найти подходящее место, с непугаными утками. Однако мы шли час за часом, то по проселочным дорожкам, то по тропинкам, а чаще напрямик, но никакого даже неприметного болотца не было и в помине. Несмотря на то, что мы собирались на охоту, я все же прихватил с собой одну из своих удочек. Сначала отец держал свою двуствольную «ижевку» наперевес, ожидая, что вот-вот выпорхнет перед нами селезень, а я шел, соблюдая дистанцию, справа и немного сзади. Потом, убедившись, в тщетности встретить дичь, повесил ружье дулом вниз, а после передал его мне. У отца за спиной был его еще военный рюкзак с провизией и патронташ на поясе, а я нес ружье и удочку. Словом, экипированы мы были на славу.
Однако, по-видимому, это был «не наш день». Мы шли километр за километром, и вышли на большое кукурузное поле. Время приближалось к полудню, и здесь было по-настоящему жарко. У моего отца был армейский обычай: куда бы он ни шел, на охоту или рыбалку, в любое время года, он никогда не брал с собой воды. Первые годы, особенно пока я совсем был мелким, лет до семи, я иногда не выдерживал и просил напиться. Тогда он останавливался у какой-нибудь лужи и говорил:
– На, пей.
Тотчас всякая охота у меня пропадала. Зная, какой брезгливый я был от природы, он мог быть уверен, что никакой заразы я не подцеплю. Зато как отводили мы душу, придя домой. Мама кипятила чайник, заваривала чай, а на самом деле воду с вареньем, наливала его во все имеющиеся в доме чашки и стаканы, и мы с наслаждением утоляли жажду.
Наконец мы вышли на берег речки, разумеется, это была Латорица, такая знакомая мне река. Только здесь она текла по равнине и была спокойной и ленивой. Берег, насколько мы могли видеть, был в колючих густых зарослях. Так что у нас даже и мысли не возникало пробраться к воде. Перед нами встал вопрос: куда идти дальше. Мы повернули направо и пошли вдоль берега Латорицы.
Я смотрю в интернете на карту «Спутник» и вижу, какую мы совершили ошибку. Поверни мы налево, очень скоро добрались бы до искомого болотца. А так, впереди нас ожидал почти десятикилометровый прямой, как по линейке отмеренный берег. Это сейчас со «Спутника» на нем видны ровно нарезанные прямоугольники полей и огородов, а полвека назад здесь было только одно поле – кукурузное.
Первое время мысль о том, что мы можем заблудиться не в лесу, а на поле, пусть даже очень большом и кукурузном, нам даже и в голову не приходила. Однако, чем сильнее припекало стоявшее почти в зените солнце, тем больше нас мучила жажда.
Одно дело переносить жару в лесу или на лугу среди веселой травы и пения жаворонков, а другое дело – на этой черной, едко пылящей при каждом шаге, без единой травинки земле, из которой как острые пики торчат трехметровые стебли кукурузы. В довершение средневековой пытки листья кукурузы превратились в желто-зеленые, изогнутые мачете, которые оставляли порезы на руках и шее при каждом неосторожном к ним прикосновении. Я не жаловался, так как знал, что жаловаться бессмысленно. Пот, который сначала обильно выступал, высох, и язык ворочался во рту, как сухая щепка.
– Ах, я, старый дурак! – услышал я слова идущего немного позади отца и, повернувшись, увидел его черное от пыли в потеках пота лицо.



