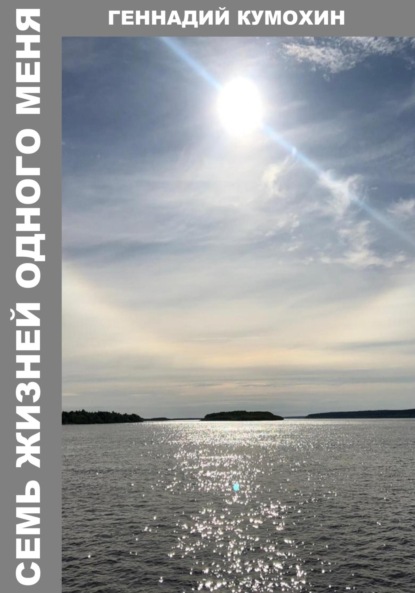
Полная версия:
Семь жизней одного меня
Наш сын, будучи еще подростком, помогал деду пасти коз, о чем у него еще долго были свежи воспоминания.
Но постепенно дети подросли и почти круглый год в домике над оврагом жил один отец.
Мне кажется, он до конца жизни жалел, что так распорядился своей судьбой, женившись на Ильиничне.
Тогда еще не произошли те неприятные изменения климата, которые сделали некоторые летние дни на Украине, да и в России, не просто жаркими, но нестерпимо жаркими.
Летний день неприметно переходил в погожий вечер, и миллионы невидимых насекомых роились в теплом воздухе, от чего до самой темноты стоял тонкий, едва различимый человеческим ухом, звон.
И без того малолюдный хуторок на берегу искусственного моря на месте бывшего Днепра за годы катастрофических перемен, которые тогда многие воспринимали как возрождение Украины, стал еще безлюднее.
Многие хатки покосились и заросли дикой травой, и не слышно было ни одного звука, который мог бы выдавать здесь присутствие людей: ни человеческой речи, ни музыки и песен из громкоговорителей, которые в прежние времена любили на полную катушку включать обитатели подобных селений.
В те годы он почти совсем перестал интересоваться политическими событиями на Украине. Только иногда, включая в городе телевизор говорил:
– А ну, послушаем, о чем они там брешут!
Однако, бесконечные русофобские выпады, кажется, действовали даже на него. Однажды, во время моего очередного приезда к нему, он заговорил о желательности получения Украиной ядерного оружия.
– Пап, а для чего хохлам атомная бомба? – не понял я – на Россию, что ли напасть?
Он задумался и признал, что сморозил глупость.
На старости лет отец, который никогда, кажется, не был особенно упитанным, еще больше похудел и сделался, как будто, меньше ростом.
Но в свои восемьдесят он еще не утратил быстроты движений и все так же лихо мог ходить с нами из одного села в другое по немалым крутым пригоркам, и, как будто по-прежнему, не испытывая особой усталости.
Я слушал его рассказы, многие из которых я помнил почти наизусть вот уже много лет и с горечью замечал новые, незнакомые мне прежде нотки печали: отец все сильнее и безнадежнее ощущал свое одиночество.
Нет, он не жаловался. Он был сильным духом и мужественным, мой отец.
Но, как человек неверующий, он не оставлял себе ни искорки надежды на хоть какое-то продолжение после смерти, и эта бессмысленная жестокость все больше ужасала его.
Он почти круглый год жил в одиночестве на своем хуторе, и только на один – два месяца посреди короткой южной зимы приезжал в Светловодск.
– Понимаешь, – говорил он вполголоса, – я приезжаю, в свой город, хожу по знакомым улицам и вижу все меньше знакомых людей: все мои сверстники умерли, и даже тех, кто был намного моложе меня, уже давно нет в живых.
Отец надорвался, когда после зимней малоподвижной жизни в городской квартире приехал на дачу и пытался самостоятельно убрать с крыши сарая упавшее абрикосовое дерево.
Несколько раз он еще ездил на свой хутор, пока ему не стало совсем худо и его, почерневшего, забрали прямо из автобуса в больницу.
Первый инфаркт не сломил его, но лишил былой подвижности.
Он прожил еще десять лет, постепенно теряя силы, но совершенно в здравом рассудке.
Перед смертью он совершил свой последний мужественный поступок, уйдя от супруги, которая совсем потеряла стыд и почти перестала ухаживать за ним, но постоянно обирая его ради своего бездельника сына.
Когда он позвонил и сказал, что врачи после случайного падения в квартире внука, поставили ему диагноз – перелом шейки бедра, я понял, что нужно торопиться.
Я опоздал на два дня, и мы приехали только на поминки.
Но я разговаривал с ним еще раз, в каком-то странном сне.
Мы сидели на завалинке возле его хатки, хотя я знал, что ее больше нет: стены глинобитной мазанки обрушились, и даже ореховое дерево, которое росло на участке, давно спилил зять.
Собственно, я его даже не видел, просто ощущал, что он сидит рядом со мной и внимательно слушает.
– Папа,– спросил я, как будто был маленьким, – зачем ты ушел?
А он ничего не ответил, только положил мне руку на плечо.
Какое-то удивительное ощущение покоя передалось мне от этой руки, и я понимал, что он уходит, но мне больше не было одиноко, как будто он сказал мне:
– Я всегда буду с тобой, сынок.
После распада Союза я разуверился в историческом материализме, с его неоправданным оптимизмом, и, так же как вся страна в те годы, почти всерьез почитывал всякую мистику. В этом чтиве ведьмы, колдуны и прочая нечистая сила приобретали почти осязаемую реальность.
Отец до конца своих дней был убежденным материалистом. Как-то раз мы разговорились с ним о чудесах и всякой нечисти. И вот что он мне однажды сказал:
– Я прожил уже довольно большую жизнь, но ни разу, никогда я не сталкивался с нечистой силой, колдовством и ведьмами.
– Ну, да, – подумал я, – почти тридцать лет живешь с ведьмой, а до сих пор об этом не знаешь.
Но вслух, разумеется, ничего не сказал.
Жена и дочь, стоило им переночевать в дедовой хате, начинали жаловаться на мучившие их кошмары. Было ли это как-то связано с Ильиничной, утверждать не могу. Сам я всегда и на даче тоже, спал крепко и без сновидений.
Но один случай, произошедший лично со мной, наводит на определенные подозрения. Отец сказал, что Ильинична ждет нас в день отъезда к себе в городскую квартиру. Мне почему-то очень не хотелось к ней ехать, так как я чувствовал, что, несмотря на внешнее гостеприимство, она всегда держит «камень за пазухой».
И вот, сидим мы за столом, мирно разговариваем, а я возьми и скажи:
– Приехал бы ты, папа, к нам погостить.
Ильинична как вскинется:
– Нет!
Как зыркнет на меня, действительно, ведьмовским взглядом.
И все ощутили этот недобрый взгляд.
Через час, когда мы уже сидели в поезде, я вдруг почувствовал себя плохо. Меня знобило, а дома, когда мы приехали, оказалось, что температура у меня под сорок, и я неделю провалялся в постели.
Отец очень дорожил своим домиком в Криничном, и возможностью жить в одиночестве никогда не тяготился. Но однажды он совершил опрометчивый поступок, отписав дарственную на дом внуку Сергею. Я думаю, так отец хотел обезопасить свою собственность от того, чтобы она не досталась жадным родственникам Ильиничны после его смерти.
А внук решил этот дом продать немедленно.
Вот тогда отец испугался. Заехав к нему в отпуск, я застал его очень расстроенным. Не без колебаний он рассказал о возникшей проблеме. Я понимал, что отнять у него дачу, это значит – реально укоротить ему жизнь.
Дело было в послесоветский период, и мои украинские родственники остались почти без средств к существованию.
Конечно, это было жестоко – оставить отца без его любимого прибежища, но, похоже, никто об этом даже и не задумывался. Тем более, что цена за участок, не знаю реальная или мнимая, была предложена немалая.
Мне очень хотелось помочь отцу, но денег у меня таких не было. И тогда, посоветовавшись с женой, я предложил следующий вариант: я выкупаю его дом, но не сразу, а в рассрочку, на полтора или два года.
И все останется как прежде.
Сам жить я там, разумеется, не собирался, разве что в отпуск иногда приезжать, да и то не каждый год.
Узнав о том, что выселять его не собираются, отец приободрился прямо на глазах.
Но каково было мое удивление, когда буквально через пару дней после нашего приезда, в Москву без предупреждения пожаловал племянник за первой частью денег. С трудом я собрал требуемую сумму.
А уже следующей весной передал отцу недостающую часть.
Когда, спустя год, я снова приехал к отцу, он в некотором смущении рассказал, что деньги эти не пошли нашим родственникам впрок.
Сергей собирался вложить свою долю в какое-то дело, но «прогорел», а они с Ильиничной в целях большей сохранности решили закопать часть денег в огороде в жестяной банке.
Когда некоторое время спустя отец решил проверить их сохранность, денег в банке не оказалось.
Короткие рассказы – Детство
Коротко и ясно
Меня всегда тянуло к краткому изложению мысли. Краткому и четкому. Не то, чтобы я не пытался писать подробно, но это выходило гораздо хуже. Например, мои статьи по эстетике.
А вот объяснить свои мысли на словах несколькими фразами получалось гораздо лучше.
Мой приятель студенческой поры Володя Мысливченко, видимо, тайно завидуя этой видимой легкости, однажды в сердцах выразился так:
– Ты, Гена, только не пытайся диссертацию написать афоризмами.
Я пытался писать диссертации дважды и оба раза прекращал это занятие по не зависящим от меня обстоятельствам.
В годы моего «романа в архитектуре» я написал несколько учебников. Особое удовольствие доставили первые из них.
Но все это было раньше, во время моих прежних «жизней». А как же получится у меня сейчас, когда я буду впервые говорить свои голосом и … о себе?
– Ну, и долго ты собираешься заниматься самокопанием? – с сомнением спросила как-то жена, – и будет ли это кому-нибудь интересно?
– Может быть, я сам и не очень интересен, но наша жизнь проходила на фоне исторических событий, которые еще долго будут будоражить умы людей, и они самым крутым образом повлияли на нашу с тобой судьбу и судьбу наших знакомых. Думаю, что вот это и может быть интересно.
Я довольно долго раздумывал над структурой своего произведения.
С одной стороны материала много, и охватывает он больше шестидесяти лет.
Поэтому это мог быть только роман.
С другой стороны, он составился из множества кусочков, похожих на картинки, ожившие благодаря настойчивым усилиям моей памяти.
И я решил: назову эти картинки клипами.
Сегодня само слово «клип» многие рассматривают в расширенном смысле. Существует даже такое понятие: клиповое мышление.
Но разве не сама наша жизнь все больше начинает походить на видеоклип, тем что в ней происходит бесконечное множество не связанных между собой событий?
Я даже посчитал количество этих коротких рассказиков или клипов в романе. Получилось больше полутора сотен. Конечно, не все клипы настолько малы, чтобы могли быть прочитаны за пару минут, но этого, думаю, и не нужно.
Первую главу романа я написал позже остальных. Может быть поэтому клипов в ней больше, чем в других главах.
«Охота к перемене мест»
Каждый год мои родители отправлялись в отпуск к родителям мамы в Закарпатье.
На первый взгляд в этом не было ничего странного. В самом деле: испокон веков близкие родственники приезжают в гости друг к другу. Странность заключалась в другом. Мы уезжали от теплого моря, куда большинство наших соотечественников тянулось испокон веков, преодолевая подчас значительные трудности и невзгоды. Правда, Закарпатье тоже считалось курортным местом со своими, весьма впечатляющими достоинствами.
Тем не менее, каждое лето мама упаковывала чемоданы и прочий багаж, и мы сначала втроем, а потом и вчетвером с моей малолетней сестрой загружались в пассажирский вагон. Я прекрасно помню всю первую часть нашего путешествия. Когда в открытые окна нашего поезда с одной стороны врывался теплый ветерок погожего синего моря, а с другой – высились покрытые снежными шапками горные вершины. В купе мы занимали только две полки, а две другие – чужие дяди и тети, чаще всего грузины или абхазцы, как правило, тоже с детьми. Я помню, как взрослые всегда непринужденно общались, и, если с ними была девочка, то обязательно нас «сватали».
На этом самая привлекательная часть путешествия для меня заканчивалась. Поезд выезжал на равнину, а нам предстояли две пересадки, кажется, в Ростове и Харькове. Вокзал неизменно встречал нас невообразимым гвалтом и скученностью. Взрослые и дети располагались на скамьях и в проходах между ними, на узлах и чемоданах. Некоторые, очевидно, подолгу. Здесь они ели, спали и громко разговаривали. Мы с мамой с трудом находили какое-нибудь относительно свободное место и присоединялись к господствующему здесь распорядку.
Иногда, если повезет, нам доставалось место в комнате «Матери и ребенка». Я помню, что в комнате было много свободного места и грудой навалены большие потертые игрушки. Отец отправлялся штурмовать билетную кассу в надежде закомпостировать билеты на ближайший проходящий поезд. И хотя у него была очередь в специальную «Воинскую кассу», желающих уехать в ней было не меньше, чем во всех остальных. Рано или поздно отец добывал билет, и мы отправлялись вплоть до следующей пересадки. На этом вокзале повторялось в точности то же самое. После месячного отпуска в Закарпатье у родственников мамы, мы отправлялись в обратную дорогу, и опять подолгу застревали на вокзалах в местах пересадки.
А затем, когда мы уехали из Грузии насовсем и несколько лет вообще никуда не уезжали, по ночам мне стали сниться поезда и дальняя дорога, и шум, и ветер в ушах.
Мама
Уже много лет мамы нет в живых, и я начал забывать ее голос. Но помню, что у нее был легкий, незлобивый характер. Она была, что называется, оптимист назло всему.
В раннем детстве у нее обнаружили врожденный порок сердца, и врачи, к которым обращались ее родители, давали ей от силы года три жизни. Лекарства от этой болезни не было, и ей посоветовали лечебную гимнастику. Она, на удивление, быстро окрепла, стала заниматься спортом, легкой атлетикой, и была даже чемпионкой Запорожья по прыжкам в длину среди девушек. Затем увлеклась танцами. У нее даже в трудовой книжке значилась первая должность: танцовщица ансамбля. Она прожила дополнительных пятьдесят лет к тому сроку, что ей давали врачи. К сожалению, так мало.
До войны ее семья жила в Запорожье. Ее родители были украинцы, как говорят, «щыри украинци», но дома говорили всегда на русском языке. А в школу ее отдали украинскую. Потом я не раз замечал, что при подобном образовании прорехи в правописании были у людей громадные.
Я помню песенки, которые напевала мне мама, наверное, с колыбели: «Ой, на двори метелыця…», и украинский язык никогда не был для меня чужим. Поэзию Шевченко я люблю не меньше, чем стихи Пушкина.
Когда мы переехали в Закарпатье, нам пришлось довольно долго «мыкаться» в поисках жилья. Отец был очень деликатный человек, и ходить по городскому начальству приходилось маме. Помню, как однажды, на приеме у председателя горсовета при мне в качестве последнего аргумента она предъявила исколотую уколами попку моей маленькой сестры.
Мама довольно быстро устроилась на работу, что, учитывая полное отсутствие в городе какой бы то ни было промышленности, было делом совсем не простым. Она работала билетным кассиром на автостанции. Я помню выражение ее лица, когда приходил к ней на автовокзал. Оно было отчужденным и даже суровым, что было совсем не похоже на мою обычно добрую и улыбчивую маму.
Однажды в местном театре давали детский спектакль «Снежная королева». Мама купила два билета, и мы пошли на это представление. Не могу сказать, что оно произвело на меня сильное впечатление, но одна мамина реплика заставила взглянуть на происходящее на сцене по-другому.
– Ты знаешь, Гена, а я много раз играла в этом спектакле. И знаешь кого? Маленькую разбойницу.
Я представил себе маму, молодую и худенькую в роли маленькой разбойницы, и мне сразу стали интересны события пьесы и действующие лица, и особенно эта симпатичная неумытая девчонка. Не очень часто, но мама все же вспоминала некоторые эпизоды из своей театральной жизни. Насколько я сейчас могу судить, труппа у них была небольшая, и им приходилось выступать и в амплуа драматических актеров, и в подтанцовках, и в отдельных балетных номерах.
– Я была третьим слева "маленьким лебедем",– сказала она как-то раз, имея в виду танец «маленьких лебедей» в балете «Лебединое озеро».
В каком-то из спектаклей с помощью жженной пробки они превращались в симпатичных негритяночек, а затем еще долго ходили черномазыми, потому что пиво, положенное им в качестве смывочного материала, они, разумеется, выпивали.
Село Русское
Родители мамы перебрались в Закарпатье вслед за своей старшей дочерью, которая вышла замуж за местного жителя.
Мои дедушка с бабушкой жили в доме зятя в селе Русском. Это был одноэтажный саманный, как большинство в селе, крытый шифером домишко. К тому же разделенный на две части. В одной половине (комнате и кухне) жили мои бабушка Клава и дедушка Тося. Вторая половина, так называемая «Гансина хата», фактически была нежилой. Мне кажется, что Ганся (произносилось по местному наречию с форсированной «г») была сестрой дяди Коли, но куда она девалась, мне не известно. Рядом с домом за невысоким забором был небольшой садик с несколькими овощными грядками, а за сараем и курятником находился довольно большой участок, который засаживали картофелем. Из-за этого участка у стариков постоянно возникали ссоры с соседями справа и слева, которые норовили отхватить у них несколько метров земли, произвольно перенося межу. Участок оканчивался глубокой канавой по которой протекал какой-то вонючий ручеек. Перед домом, который стоял перпендикулярно дороге был еще маленький палисадник с цветущими георгинами – любимыми цветами бабушки.
На моей памяти бабушка Клава была полная с круглым лицом и толстым кончиком носа, таким же, как у своего брата, а дедушка Тося был худой и горбоносый – настоящий казак с острова Хортица, откуда он был родом. Когда я был совсем маленьким, я застал дедушку, работающим кондуктором на автобусе. Он ездил на большом кургузом автобусе. Я встречал его вместе с бабушкой и называл марку автобуса:
– Тат-ра.
Потом дедушка работал инструментальщиком в автопарке. Бабушка рассказывала, что в молодости дедушка был шофером и возил в революцию красных комиссаров. В мирное время он стал слесарем высшей квалификации – лекальщиком. Бабушка Клава работала кассиром в большом гастрономе. До войны и во время войны они жили в Запорожье, а потом начались скитания, о причине которых со мной никто и никогда не разговаривал.
Асфальтированная дорога, ведущая в Ужгород, проходило прямо через село. Было еще продолжение села на поселковой дороге. Но я туда никогда не ходил. Меня больше привлекала основная дорога. За бабушкиным домом еще через несколько строений проходил мост через небольшую речушку, которая обычно мирно журчала мутноватой водицей. Рядом стояла высокая церковь, как и все культовые сооружения в округе, находящаяся в довольно хорошем состоянии. Колокольный звон извещал прихожан о наступавшем празднике. Бабушка в церковь не ходила, но в углу комнаты у нее всегда стояла иконка с лампадой.
Из детских воспоминаний: утром будит колокольный перезвон, мы выходим с дедушкой на улицу и, прогуливаясь, доходим до моста. Выпал небольшой снежок, и так торжественно припорошил он землю, берег и дома, из труб которых клубится ароматный дымок. Скорее всего, это время Рождества.
Село хоть и называлось Русским, но на самом деле русских там не было. Местные жители, потом я узнал, что их национальность называется «русины», разговаривали на своеобразной смеси нескольких языков. Например, штаны назывались «гати», а город – «варош». Когда я хочу озадачить кого-нибудь из внуков, хвастающихся передо мной знанием английского, я прошу перевести детские дразнилки, которые запомнил сызмальства, гуляя с местными детьми: «бачи, крумпли гарячи» (дядька, картошка гарячая) или «краду, краду комуныцю» (ворую, ворую траву, кажется, клевер).
Находясь у бабушки, я поневоле проникался и особенностями быта и общения селян. Ну, дети, они всегда дети. Непосредственные и наивные. В пять лет я свободно гулял в селе и общался со сверстниками. Когда лет через двадцать моя двоюродная сестра вышла замуж, ее избранником оказался Михаил, с которым я еще мальцом играл в Русском. Бабы в селе, как и все женщины на свете, не всегда между собой ладили. Но вот последним аргументом в споре был такой. Баба нагибается, поднимает подол и показывает свой голый зад – «гузыцю», по-местному. Отвечать больше было нечем, кроме как в ответ продемонстрировать свою пятую точку. После этого спорщицы расходились в разные стороны, вполне собой довольные. Сам был свидетелем такой сшибки характеров.
С мамой на реке
В первые годы знакомства с Мукачево родители довольно часто бывали на Латорице. Любимым их местом была река, мелкая, быстрая и холодная в своем верхнем течении, в районе санатория «Карпаты». Так стали называть при советской власти замок Берегвар графов Шенборнов, построенный еще в конце 19 века. Мы часто бывали в парке поблизости от замка, но меня, признаюсь, больше манил пруд, с плавающими там у всех на виду карпами. А взрослых скорее привлекла река, вернее ее уединенный противоположный берег, где они приладились устраивать пикники в довольно многочисленной компании.
Но сейчас я вспомнил не эти шумные сборища, а один день с мамой и отцом на Латорице, куда мы добрались, судя по всему, из дома бабушки в Русском, откуда до ближайшего изгиба реки было совсем не далеко. Видимо, я был еще совсем мал, потому что оставался с мамой, а не пошел за отцом, который пытался удить рыбу неподалеку от нас. Летом в баню мы не ходили, и мыться удобнее всего было на реке. Вода здесь, в двадцати с лишним километрах от санатория, была совсем теплая. Да и характер реки сильно изменился. Она уже никуда не торопилась, и ее вода была спокойной и ласковой. Пока мама мыла голову, зайдя поглубже в воду, я плескался на мели у нее на виду. Затем она подошла ко мне и сказала, склонив голову и отжимая волосы руками:
– Ты посмотри, сынок, какой у нас папа красивый! Ему скоро будет сорок лет, он до сих пор выглядит, как мальчик.
Я посмотрел в сторону отца, но ничего особенного в нем не заметил. Папа, как папа. Я всегда его знал таким. Отец, действительно, до старости был стройным и подтянутым. И только много позже у него появилась небольшая округлость в области живота.
Село Плоское
Каждое лето, едва мы переехали в Закарпатье, родители отправляли меня в пионерский лагерь. На одну, на две смены, а то и на все три. Так что я успел как следует впитать в себя «дух» пионерлагеря тех времен.
Как правило, это был пионерлагерь в селе Плоское, который был закреплен за автобусным парком, где работали отец и мама
В свои первые смены я попадал в самый младший отряд. В нем были еще дошколята, которые по ночам «ловили рыбу». Это был эвфемизм, обозначающий, что после этого простыни «рыбаков» вывешивались на просушку. Однажды на веревочке сушилась и моя простыня, но только один раз. Лагерь «Плоское» размещался в сельской школе, из классов которой на лето убирали парты и собирали кровати. Здание школы было одноэтажным. Под шиферной крышей в несколько слоев лепились ласточкины гнезда. Все дни моего пребывания в лагере были наполнены ласковым щебетанием взрослых и малолетних касаточек. Но я не видел ни одного разбитого такого хрупкого на вид гнезда и не видел ни одного случая гибели птенца или взрослой ласточки.
Утро начиналось с хрипловатых звуков горна, после чего все отправлялись к умывальникам и на линейку. В столовую отряды также направлялись строем под мелодию с известными словами:
«Бери ложку, бери хлеб, и садись-ка за обед».
И дальше:
«Нету ложки, нету хлеба – оставайся без обеда!!
На завтрак часто подавали манную кашу, щедро посыпанную порошком корицы. Мама корицей никогда не пользовалась, поэтому мне запомнилась эта каша, как характерная для лагеря. Больше ничего непривычного в лагере не подавали. Из взрослых в лагере были только воспитатели и повара. Всю остальную работу выполняли дежурные, которые назначались по очереди из старших отрядов. Из младших отрядов дежурных назначали только для посильных для дошколят обязанностей.
Мне запомнилось только дежурство у въездных ворот лагеря. Машин тогда было еще мало, так что открывать ворота приходилось только пару раз за дежурство. Гораздо большая нагрузка ложилась на дежурных по столовой. Им нужно было не только разносить блюда, но и убирать, и мыть посуду, чистить картошку и обеспечивать кухню водой. С водой был связан инцидент, который мне особенно запомнился.
Воду нужно было носить из соседнего ручья, весело журчавшего в метрах ста от лагеря. Однажды ребята из вечерней смены решили облегчить себе жизнь и, чтобы не ходить на ручей, набрали воду из колодца ближайшего к лагерю селянина. На ужин чай, который нам подали, пить было просто невозможно. Дело в том, что вода в колодце была минеральная, как говорили местные – «квасова», почти непрозрачная и желто-зеленая. А в соседнем ручейке она была чистая и очень вкусная. Немного выше по течению стояла старинная, но еще работающая мельница. Ее тяжелое колесо приводилось в движение напором воды, которая подавалась по почерневшему от времени деревянному желобу. Быстринки на ручье чередовались с небольшими омутами.



