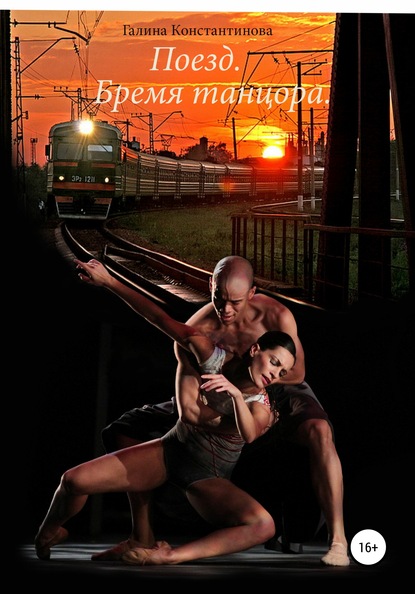 Полная версия
Полная версияПоезд. Бремя танцора
– Конечно, нет.
– Хотя и здесь уже прорываются такие все раскрепощённые, брутальные, сразу им давай и коней, и доспехи, и они чудо вершить будут. Есть у нас такие. Вернее, были. Но долго не продержались. И потом, эта их всеядность… Я имею в виду ориентацию… Сурковский – он даже не скрывал. Впрочем, это сейчас модно…На всех каналах рекламируют. Но это столица – а мы что, по сравнению с ихними размахами… Скромнее нужно быть. Вот понимаешь, что обидно?
– Что?
– Гонору, эпатажности – сколько угодно. А мастерства – вот на столько, – Александр Евсеевич показал свой толстый мизинец и широко улыбнулся.
Посетитель тут же ответил белозубой улыбкой. Он явно нравился Александру Евсеевичу. За свое умение поддержать любой разговор, за тонкое понимание роли искусства в современной жизни, за отличный вкус, касающийся всего – одежды, манеры поведения, умению одновременно светиться лоском и не выскакивать под свет прожекторов. У Александра Евсеевича была дочь – но не было сына, и иногда он ловил себя на мысли о том, что в своих мечтах видел своего гипотетического отпрыска именно таким.
– Ну что ж, молодой человек, у меня дела-с…
– Разрешите откланяться, как говорится.
И они обменялись дружеским рукопожатием .
2.
– Коля, ну что ты мямлишь!
Молодой мужчина как будто застыл в движении на сцене. Его длинные волнистые пшеничного оттенка волосы, стянутые в хвостик, влажно блестели, а в свете прожектора, казалось, слегка искрились. Лоб прорезала глубокая морщина, тонкие губы сжались в порыве упрямства или внутреннего напряжения. На чёрном трико расползались пятна пота, и резкий женский окрик подействовал на него, как на лошадь, остановленную на всем скаку.
– Что опять не так?
– Все не так!
Внизу, совсем рядом к сцене, стояла маленькая женщина, с почти подростковой фигурой. Словно для контраста, её волосы были коротко острижены и уложены отдельными волосками, из-за чего лоб казался скрытым за частоколом жестких волосяных прутьев. Женщине было лет двадцать, а Коля на роль мальчика уже явно не тянул. В его взгляде светло-карих, с желтыми сполохами глаз мелькнуло что-то жалкое, из-за чего он сразу стал похож на Пьеро.
– Лариса, почему ты считаешь, что только ты знаешь, как должен выглядеть спектакль?
– Послушай, я понимаю, что тебе тяжело. Ты с Лео работал много лет. Но я-то ведь тоже не девочка! Если мы хотим его все-таки поставить, будь добр, слушайся меня. Я тебя просила – свою партию переделать. Ты встречаешься с любимой девушкой, Мариной, тут нет никакой трагичности. Трагичность будет потом. Сейчас ты счастлив, радостен, полет, а у тебя не полет – у тебя ползание какое-то.
Лариса как будто уговаривала Колю собраться.
– Ощути плотность воздуха, который вокруг тебя. Ты не в мёде двигаешься, вокруг тебя весна, любовь, цветы. Ты должен передать ощущение радости…
– Ну не могу я! Не могу! Не могу! Как без него?
В тёмном маленьком зале кто-то кашлянул.
– Все, репетиция окончена, – отрезала Лариса. – Поймите же наконец! Мы вообще не существуем! Нас нет! Я вчера разговаривала с Павлом Петровичем. В общем, перспектив никаких. Да он сам придёт и скажет. А ты, – сверкнула она глазами в сторону Коли, – ты вообще как баба! Разнюнился! Всем тяжело! Не только тебе! Что теперь, рядом с ним в могилу ложиться? Мы сейчас все расслабимся, а завтра нас выкинут на улицу. Кто мы такие? Театр «Мембрана»? Вот у Сурковского – театр, у них сейчас и помещение свое, и сцена. А у нас ничего нет! У нас только Лео был! У нас даже названия нет официального – кружок самодеятельного творчества, или современного танца. Вы вообще понимаете, чем это нам грозит?
Несколько человек, которые переодевались, скрываясь за спадающим занавесом, прекратили сборы.
– Ладно, Лариса, не распаляйся. Пошли домой, – к Ларисе подошла черноволосая девушка, ободряюще сжимая плечо.
– Пошли, Катюха.
3.
Рафик Гасанов учился с Баскаевым с десятого класса. Он и сам не мог понять, что их с Лёней объединяло. Лёня – всегда полный идей, замыслов, которые менялись у него с чудовищной быстротой, быстрый, взрывной – и тихий упитанный Рафик, всегда что-то обдумывающий, рисующий на бумажках квадратики и кружочки.
После школы Лёня, как все творческие люди, пытался поступить то туда, то сюда, думая, что впереди у него вагон времени, и образование к таланту должно прилипать по каким-то своим, отбрасывающим всякую логику, законам. Ему предлагали заняться балетом всерьёз – но он отвергал эту идею и повторял, что вырабатывает свою технику танца, совершенно отличную от консервативной. Он создавал студию, набирал людей, ставил какой-нибудь спектакль – потом резко всех разгонял и уходил в подполье.
Потом поступил все-таки в институт культуры, проучился два года, и снова ушёл в вольное плавание по морям своей неуемной фантазии, потом всплыл в стенах альма-матер, подобно забытому наутилусу, чтобы снова шокировать педагогов смелыми проектами. Смутное время перестройки не способствовало упорядочению процесса становления мастера.
С точки зрения окружающих, его движения были хаотичны, в них не было логики или элементарной заботы о выживании. Рафик предложил ему заняться совместным бизнесом, тем более что сам, накопив первоначальный капитал на полулегальной перепродаже цветных металлов, решил немного выйти из тени. Лёня в ответ только рассмеялся, потому что совершенно не представлял себя в «галстуке и перчатках» , как он выразился. Он не желает быть винтиком какой бы то ни было машины, он не знает, где будет завтра, интересно ли ему будет то, что кажется интересным сегодня.
Рафик в глубине души завидовал ему хорошей завистью – сам он был настолько правильным и упорядоченным, что не представлял ни на минуту, что значит забыть обо всем ради искусства. Но также хорошо Рафик понимал, что Лёня при всей своей целеустремленности нуждается в поддержке. Поэтому иногда старался свести его с нужными людьми и уговаривал Леню заняться пусть не совсем искусством, но, по крайней мере, приносящим живые деньги делом.
Вот и в тот наступающий вечер в начале августа они пили пиво и обсуждали какие-то новые замыслы. Рафик иногда давал средства под проекты, и с удовлетворением отмечал, что годы, проведенные в бизнесе, не смогли изменить его прежнего отношения к старому другу. Рафик уже перестал анализировать, почему ему с Лёней было хорошо и комфортно, скорее всего, от безудержной энергии, кипевшей и выплёскивающейся через край. А, может быть, из-за некоторой почти тоски по молодости, где можно было творить не ради денег – а лишь во имя того, что прекрасное имеет право на жизнь.
В тот день они сидели сначала у Рафика на даче, потом поехали в поселок на окраине города, чтобы навестить родителей Лёни, которые, конечно, усадили их за стол. Потом Рафик высадил его в центре поселка, около семи вечера, в тот день у Лёни была какая-то непреодолимая жажда общения. То ли к девчонкам хотел заглянуть, с которыми вместе учились, то ли ещё к кому. Он и Рафика звал, но тот отказался. Сослался на дела, да и не было в нем острого желания видеться с кем-то через почти двадцать лет после окончания школы. Так и расстались – солнечным вечером около автобусной остановки.
Сейчас Рафик, вспоминая последний взгляд Лёни, думал, что между ними осталось что-то не высказано, в памяти вспыхивали отдельные предложения и слова. А ведь Рафик почти ничего не пил, только бутылку пива в начале, зная, что придется садиться за руль. Ему было нестерпимо жалко того последнего момента, вроде бы, Лёня что-то ещё крикнул, но мимо как раз проезжал автобус, и последней фразы он уже не расслышал…
Рафик решил не разговаривать по телефону из дома. После того, как тело Лёни нашли в пруду, а в милиции объясняли что-то невнятное, ему вообще казалось наиболее рациональным как можно меньше посвящать в дела своих близких людей. Его так часто спрашивали о том, не был ли Лёня в депрессии, не мог ли причинить сам себе вреда и прочий бред, который последнее время начал его так раздражать, что ему хотелось крикнуть: «Да вы что здесь, все кретины?!» .Но он вынужден был давать показания, подписывать какие-то бумажки, журналисты лезли с вопросами. А причина смерти оставалась все такой же неясной, как туман над просыпающимся озером, когда видны смутные очёртания деревьев на берегу, и кажется, что картина давно изучена, но выступающие из белой молочной массы фигуры кажутся незнакомыми и чужими.
– Ашот?
– Здравствуй, дорогой, – на том конце провода ответил немного хриплый, с характерным акцентом голос. – Слышал про твои горестные хлопоты. Сочувствую.
– Да, вот так получилось… Ашот, ты ведь тоже его немного знал. Не можешь там по своим каналам простучать?
– Что простучать, Рафик?
– Да не нравится мне это все. Тёмное дело какое-то.
– Так все дела тёмные, – голос стал менее дружелюбным.
– Ты поговори там, пощупай… Несчастный случай, говорят. Не может этого быть! Он эту лужу переплывал в пять лет. Это же нелепо – пошел и упал в этот чёртов пруд, захлебнулся и утонул. Ты бы этому поверил?
– Может, самоубийство?
– Это вообще глупо. В общем, я очень тебя прошу – пошукай там где надо… Пусть следака нормального дадут, чтобы нюх был как у гончей…
– Ммм… Я постараюсь. Ты не переживай, я тебя понимаю…Разберемся…
4.
Лариса не хотела никуда идти. Она сидела перед зеркалом и вглядывалась в свое красивое лицо. На трюмо валялось приглашение на премьеру в театр Сурковского. Глеба она хорошо знала при жизни, но вот с Лео он не особо ладил. Да и внешне они были полные противоположности.
Лео – сухонький, невысокий, с хвостиком, в костюме чувствовал себя неуютно, предпочитая джинсовый комбинезон, трикотажные пуловеры и немного стоптанные кроссовки. Он двигался всегда бесшумно, разозлить его было непросто, но обычно он старался задавить противника словами, с неизменной дружеской улыбкой. Павел Петрович его боялся, поэтому из дома культуры «Мембрана» то уходила, то возвращалась, по мере того, как у Лео менялись какие-то планы.
Глеб был высокий, ширококостный, выбритый наголо, с нагловатыми манерами. Обычно он долго подбирал слова, чтобы выразить какую-то мысль, главное в его стиле общения был напор, осознание собственной неординарности, самолюбование, желание подчеркнуть свою индивидуальность. Лео не раз говорил, что Глеб все более и более скатывается к обыкновенной «попсе», подстраивается под желание публики получать шоу с минимумом мыслительных реакций. «Давит на эрогенную кнопку», – таков был его окончательный приговор несколько лет назад.
Кончину Сурковского обыграли во всех средствах массовой информации, даже нашли двух двадцатилетних мальчиков, которые ворвались к нему в дом с целью ограбить. Взяли видеомагнитофон. А Глебу размозжили его красивый правильный череп.
Все-таки нужно пойти, несмотря ни на что. Коля на репетиции был просто ужасным. Мало того, что пил недели две, так ещё сейчас, кажется, попивает в одиночку. За что Лёня дал ему главную роль в своем последнем спектакле, непонятно. Все решится на днях. Если этот старый бюрократ Павел Петрович упрётся, то нас просто выгонят. Поэтому весьма неплохо появляться в свете.
Лариса занималась у Лёни столько, сколько себя помнит. В последние два года, когда у него начались проблемы с женой, они много общались. Кончилось это достаточно банально – романом.
Это был странный роман, почти как у учителя с ученицей. Она спрашивала себя, было ли в её отношении хоть капля любви – и не находила ответа. Было восхищение Лео как артистом, режиссером, учителем, но любовником он был переменчивым и непостоянным. Она то пыталась за ним следовать по пятам, то пропускала репетиции, потом снова всё как-то налаживалось, даже переходило в спокойную дружбу, охлаждалось, как коктейль под влиянием кусочков льда, снова вспыхивало. Что-то такое Лео всегда умел говорить, во что верилось.
Кстати, почему к нему приклеилось прозвище «Лео»? Кажется, после сериала про «зачарованных». Совершенно случайно маленькая девочка, дочь кого-то из друзей, назвала его так, и всем понравилось. Он действительно был «хранителем» их маленького театра, все вопросы с администрацией решал сам, но на репетициях требовал такой самоотдачи, что иногда приходилось танцевать до мозолей. Они никогда не знали, что же получится в итоге, а он говорил, что это знать не обязательно, важно знать основную мысль и пытаться её додумать.
Думать, думать – это было его основное правило. Думать о том, в чём ты движешься, каково окружающее пространство по консистенции, иначе говоря, какова «плотность». Затем ощутить, как ты сливаешься с пространством, для этого найти «точку», а когда колебания «плотности» становятся твоими, когда ты нашел эту «точку», ты уже можешь выразить «линию».
Многие не могли понять его методики и уходили. А он не отчаивался. Искал новых людей и верил, что любого можно заставить чувствовать пространство и танцевать с ним в унисон.
Ларисе нравилось в этой методике то, что не было жёстких алгоритмов, куда нужно двигаться. Когда они придумывали партию в спектакле, они придумывали на ходу, в соответствии с собственными ощущениями. Лео только подправлял, склеивал, сшивал движения, и получался неповторимый узор спектакля. Как они это сделали, почему – трудно было объяснить словами. Но разве слова нужны, смеялся Лео, зачем искать логику в том, что не может поддаваться логике. Существуют какие-то законы, но мы не знаем о них. Или знаем, но не можем применить. В общем, с ним трудно было спорить, тем более что его доводы звучали убедительно, вопреки абсурдности.
Лариса в последний раз взмахнула щёточкой по ресницам, придирчиво оценила обтягивающий свитер и вышла на улицу.
5.
– Это великолепно, шарман, браво!
Возле юного мальчика из театра Сурковского шумно вздыхала дама лет сорока, млея от его наскоро накинутой, с проступающими пятнами пота футболке. Мальчик был и вправду хорош, но Ларису он не интересовал. Слишком юн, к тому же вопрос принятия или непринятия в коллектив театра решает не он, а его отец.
Отец стоит поодаль, разговаривает с солидным дяденькой, кажется, директором музыкального театра. Внезапно на Ларису нахлынули воспоминания, она вспомнила время, когда Лео было что-то около тридцати, она была школьницей и в первый раз его увидела. Тут же она стряхнула воспоминания движением плеча и направилась к столу. Что-то я часто и помногу стала пить, подумалось ей, но щебетание, окутывающее её со всех сторон, показалось настолько равнодушным к её личному горю, что она продолжила движение даже с какой-то отчаянностью.
– Лариска, привет! Сколько лет, сколько зим!
Путь ей преградил тот самый, очень правильный и очень не запоминающийся посетитель уважаемого Александра Евсеевича.
– Женя?
– А кто же ещё! Вот решил тоже… приобщиться.
Лариса залпом выпила стакан водки.
– Ты хоть закусывала бы, девочка, я тебя понимаю, конечно…
Лариса кивнула, взяла яблоко и пошла к стене, где были диваны. Ей показалось, что вокруг неё плотность воздуха увеличилась, и сквозь эту оболочку (мембрану, усмехнулась она) перестали проникать окружающие звуки. Люди вокруг перемещались в хаотичном порядке, она слышала голоса, различала фигуры, но, как будто просеивая ощущения сквозь плотное сито воздуха. Водка начала разливаться по телу, и оболочка начала становиться тоньше. Странно, должно быть наоборот.
К ней подсели и начали разговор, кажется, кто-то из артистов, девчонки. Они поглаживали её по руке, как бы успокаивая; потом она поняла, что плачет, и становится легче, почему же она раньше не могла плакать, ни на похоронах, ни потом, воздух снова стало обычным, и она уже отвечала на вопросы, и ей не было больно на них отвечать, наоборот, хотелось и хотелось говорить.
О том, что тело долго не выдавали в морге. Какой-то тупой анатом с жирными лоснящимися глазками все не мог поставить причину смерти, они сидели в коридоре морга с Колей и родителями, она даже плакать не могла, потому что плакали все остальные. Потом им выдали тело в полиэтиленовом пакете, она глянула мельком и увидела чёрное пятно на левом виске. Такое огромное чёрное пятно, что его невыносимо было разглядывать. Потом какая-то чуть ли не уборщица вынесла заключение о смерти, и они с изумлением прочитали, что причина смерти не выяснена, и внизу мелким шрифтом – «признаков насильственной смерти не обнаружено». Ларисе хотелось крикнуть: «А это что?», но кричать было некому.
Так она сидела и рассказывала кому-то, пару раз подходил Женя, приносил водки, участливо брал её за руку. А что в прокуратуре говорят, а какие версии, интересовался он, но Лариса почти ничего не знала. Какая-то пьяная компания, с которой он ездил покататься, какая-то свидетельница, но её сшибла машина, и теперь она в больнице. Вот видишь, говорил Женя, пытаясь поймать её беспокойные руки, значит, здесь всё не так чисто, как может показаться на первый взгляд. Они якобы с Лео поехали покататься, потом остановились у пруда, шашлычок, пиво, все, как положено, а потом эту девчонку сшибли машиной. И вообще, как такое могло случиться – компания, ведь ты же помнишь… Понимаю, понимаю, все успокаивал её Женя, оглядываясь, не прислушивается ли кто к их разговору, и от этого становилось легче. Банкет двигался к завершению, и она была уже достаточно пьяна, чтобы встряхнуться и поехать домой самостоятельно. Женя галантно посадил её на проезжающую машину и обещал позвонить.
6.
Павел Петрович решил задержаться до вечера. Последнюю неделю он напряжённо решал для себя, стоит ли оставлять этих трубадуров, как он мысленно их называл, или все-таки указать им на дверь. В конце концов, он ничем не рискует, если заставит их поискать новое место для своих репетиций. Не велики таланты, к тому же у них не стало самого главного защитника – Баскаева. Он в свое время изрядно потрепал ему нервишки.
Павел Петрович был человеком от искусства весьма далеким. В подведомственном ему доме культуры он поддерживал культуру как мог. Дискотеки – это ему было понятно, нужно куда-то молодежи энергию девать. К тому же это выгодно, хоть какие-то деньги на ремонт и прочие расходы. А вот что делать с этими спектаклями, на которые ходят, как ему представлялось, только потому, что они были всегда бесплатными – этого он пока не понимал. Павла Петровича более всего заботило внутреннее спокойствие, и он взвешивал все «за» и «против». А вдруг они достанут все свои дипломы непонятных фестивалей, обвинят его во всех грехах. С другой стороны, Лариса эта, совсем ещё, по его понятиям, пионерка, а уже напирает, что ей нужно хоть как-то оформиться, а ставка руководителя коллектива у него на вес золота. Поэтому он придумал компромиссный вариант.
На репетиции были только шесть человек. Павел Петрович, маленький лысоватый колобок, вкатился в зал и торопливо поднялся на сцену.
– Ну-с, дорогие мои, добрый вечер! У меня есть к вам сообщение, весьма приятное, я бы сказал. Ларисочка, подойди сюда. Завтра оформляем тебя на пол-ставочки, по контракту, на два месяца. Коленька, ты не дуйся, дружочек. У Ларисочки диплом, культурная она у нас, а ты уж, извини. Я понимаю, что ты давно тут. Но меня тоже пойми. Вдруг кто в личных делах начнёт копаться, сейчас с этим строго, культура – и образование должно быть культурное…
Лариса не ожидала, что так всё повернется. Она несколько недель пыталась выловить Павла Петровича в коридорах, просила, потом требовала разговора о судьбе коллектива, и вдруг так просто всё решается. Хотя что-то ей подсказывало, что все не так просто. Коля смотрел на неё с обидой. Ну, ничего, я с тобой ещё поговорю, в конце концов, ей не хотелось его терять.
Последний спектакль, до конца ей непонятный, назывался «Золото Колаксая». Она немного отвлеклась на застрявшую как заноза мысль, почему Лео был так привязан к Коле. Ведь Коля был такой нервный, на её взгляд, человек, и она прямо чувствовала, какая волна неприятия исходит от него. А Лео его любил и даже не обращал внимания на его выходки. Коля молчал, почему-то вцепившись в пыльный занавес, переваривая информацию.
– И ещё, – многозначительно добавил Павел Петрович. – И ещё я хотел вам сообщить не слишком приятную новость. Скоро начнётся учебный год, студенты вернутся с каникул, в общем, нам нужно подготовиться. Сами понимаете, должно быть всё чистенько…
– Говорите яснее! – выкрикнул Коля из угла сцены.
– А если яснее, – ещё более жёстким тоном ответил Павел Петрович, – то нужен ремонт. И на это время у меня нет помещения для ваших занятий.
– И что же нам делать? – спросила Лариса.
– Что-то… Есть вариант. Пристройчик помните? Вот там предлагаю
– Но там невозможно, там пол – необструганные доски! Там вообще сарай! Там места нет, – заговорили все разом.
– Ну, хозяин барин. Сейчас вы тоже тут почти в темноте занимаетесь, и ничего, что делать, войдите и в мое положение, или вам сразу балетный класс нужен? Ищите тогда другое помещение, я ведь не настаиваю…
– Сколько времени необходимо на ремонт? – пыталась перекричать всех Лариса.
– Месячишко, думаю… Да не кричите вы так! В конце концов, никто не обязан создавать вам тут условия. Вот оценили бы мою доброту – нет, сразу в крик. Давайте подумайте. Что вам дороже, искусство или амбиции, оформляйтесь, ключи на вахте берите, субботничек устройте, приберитесь там…
Павел Петрович спустился по сцене и покатился в сторону выхода. Потом обернулся и со словами «эта культура давно уже висит у меня на шее» и вышел в холл.
7.
Следователь Корсуков был назначен на дело убийства Баскаева неделю назад. Перед ним дело вела молоденькая практикантка, и вообще по коридорам курсировали слухи, что дело не стоит и выеденного яйца, вроде как все понятно. Единственно непонятное заключалась в том, почему компания, с которой катался Баскаев, не заявила о его пропаже сразу. Только через неделю, когда выловили труп в грязноватой воде начинающего зеленеть пруда, задним числом приложили свидетельские показания.
Из показаний следовало, что Баскаев был лучшим другом свидетеля Жоры, Жора был за рулем, увидел стоящего на остановке Баскаева, предложил выпить в приличной компании, они мило посидели на берегу пруда, затем Жора подбросил Баскаева до «красного барака», как они называли здание местной администрации.
Интересно, почему эти милые и чистые парни не написали свои признания сразу? Один из них до сих пор не найден. Это Корсукову не нравилось. Но делать было нечего, его буквально в экстренном порядке перебросили с другого расследования, под видом того, что многие в отпуске, а практикантка что-то «не тянет». Надо бы это дельце ещё раз провентилировать, как выразился его начальник и многозначительно посмотрел в глаза. Корсукову было непонятно, в каком «разрезе» нужно решить дело, но он был не столь искушен в подобного рода «заданиях» , что уточняющих вопросов задавать не стал.
Рафик зашел в кабинет и увидел сидящего за столом необычно серьезного лейтенанта. Что-то в нем располагало с первого взгляда. Короткие, зачесанные назад волосы, чистый лоб с едва заметной морщиной озабоченности, серые, думающие глаза. Может, с этим повезет, подумал Рафик, присаживаясь на предложенный стул.
– Мне очень неудобно просить Вас рассказывать всё снова, но я человек в этом деле новый, мне показалось, что чёткой картины не складывается. Дело заведено уголовное, убийство, в то же время каких-либо улик нет, свидетельские показания путанные, в общем, я прошу Вас ещё раз все вспомнить и рассказать мне.
«Те же яйца, только вид сбоку», – разочарованно подумал Рафик, прикрывая глаза, чтобы уравновеситься, и начал по которому кругу рассказывать историю последней встречи с Лёней.
– А какие у него были планы, он с Вами делился?
– Конечно. Видите ли, Лёня был с точки зрения современного общества не коммерческий человек. Ему многое было интересно, иногда получалось и деньги зарабатывать. В последний день я уговорил готовить «батареек».
– Не понял?
– Ну, девочек таких, на дискотеках. Заводят толпу, чтобы другие развеселились. У нас есть такие школы, но Лёня, поймите, он был особо одарённый человек. Грубо говоря, бревно мог заставить двигаться. К тому же, это деньги. Есть спрос. Он уже готовил несколько групп раньше, но потом бросал. Знаете, как бывает у творческих людей – раз, и пришла в голову какая-то совершенно другая, замечательная мысль. Всё, что к ней не относится и мешает, отбрасывается. Но новизна здесь заключалась в том, что театр, не знаю, говорил ли Вам кто-нибудь о нём, «Мембрана» называется, это основное и любимое детище его… В общем, он что-то задумывал, ему нужно было много людей. Девочки эти дискотечные могли бы заодно послужить материалом. Хотя, конечно, это грубо, но тоже – своего рода кастинг, приятное с полезным. Видите ли, у него были какие-то замыслы по созданию детской школы-студии пластической поэзии. Я не совсем понял, что это такое, но «батарейки» – это был вполне конкретный проект. Собственно, я ему помогал восстановить связи, найти заказчиков.

