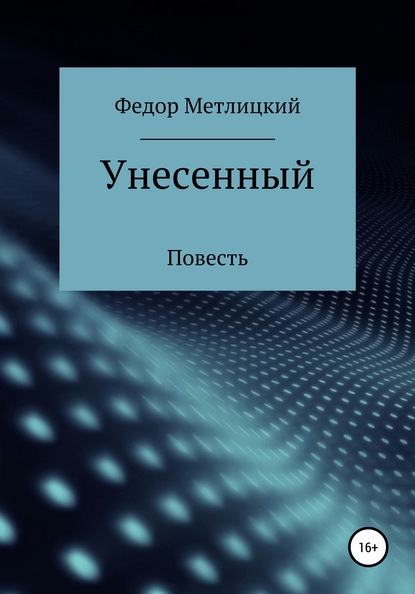 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Унесенный
____
Гордеев и Лева вышли из суда подавленными. Улыбались жалкой насильственной улыбкой, погруженные в свое отчаяние, как те, что сидели в приемной в ожидании приговора. Гордеев начал сомневаться, исходят ли его действия из генов предков – романтиков революций 17-го и 90-х прошлого века, или намагничены Госдепом?
Как это – прекратить деятельность? Исчезнуть? Оставить единственное дело жизни, чем занимался годами?
Суд потряс Гордеева, по ночам не спал и перемалывал в уме суть разбирательства, злорадно вслух давая ядовитый достойный ответ. И чуть не дошел до грани душевной болезни.
Он не знал, что делать. Отдал все силы своей маргинальной организации, став аскетом, как-то сумел вытащить за уши коллектив в творческое состояние, сделать организацию общественно важной. Власть холодно смотрела издалека или насылала органы госконтроля, тайно выведывающего главное – не подкапываются ли под конституционный строй, который она и воплощает. И вот теперь – все отвалилось, и надо искать другую работу.
Арендатор неожиданно потребовал выселения. Гордеев все понял, это обычный прием власти – только мягкое воздействие на противников, путем надавливания на болевые точки.
Секретарша Алена не смогла сдержать себя, прильнула к нему со слезами. Он обнял ее благодарно. И сожалел: слишком они не совпадают во времени.
Но чем-то она помогла ему.
____
Гордеев сжимал кулаки, делал стойку борца, сопротивляясь громоздкости скафандра. Спорил, ненавидел и сомневался, совсем забыв, что сидит в кирасе, в его теперешнем состоянии уже не участник, никто.
Там внизу, был момент острого возбуждения при грубом отстранении его от дела неправедным приговором суда. Но скоро возбуждение прошло, и он стал различать потолок убеждений и мнений, мешающих увидеть бездонность истины.
____
Его юношеское представление, что человек по натуре добр – не оправдалось! Да, он нормален, добр, сочувствует, но до тех пор, пока не затронуты его интересы, время, благополучие, а тем более жизнь. Человек не хочет свободы, так легче, ибо свобода вынуждает полагаться только на себя, ведь страшно самому плыть в бурном море, лучше переложить на других.
Но отчего-то мучила совесть – что-то здесь не так! Такое отношение к людям угнетало его, словно связывало с великими злодеями мира, истреблявшими народишко (еще бабы нарожают!).
Из недовольства своим положением люди совершают не только революции, но и великие открытия, переворачивающие представления о мире с головы на ноги, создают литературу и искусство, считающиеся великими.
12
Он очнулся от воспоминаний, посмотрел в черную пустоту. Почему так слабо мерцают звезды? Ах, да, мешает подсветка. Или солнце вышло из тени Земли. Однообразие безграничности бездны равно пустой камере без окон и дверей.
И снова стал тонуть в невыносимом, нечеловеческом одиночестве.
Ищу кругом души родной…
Перебирал в памяти лучшее, что с ним было. Окунулся в солнечные сцены молодости, своей семейной жизни, и забыл о безвыходном будущем, став снова обычным землянином.
____
В нем жил великий океан над обрывом – стоит перед глазами всегда, как память о счастье.
И было счастье в нищей студенческой жизни с девушкой, с которой "расписались" где-то в загсе вместо свадьбы.
В молодости он много ездил по бесконечно сложным для осмысления городам, был на Ниагарском водопаде, со страхом проходя по мостику прямо под грохочущим чудовищным потоком воды. Видел сатиновое небо ночного военного Багдада.
Прочитал тысячи книг, в том числе в Интернете.
Переживал за людей разных времен и эпох, которых видел живыми и страдающими – через окна искусства и литературы.
Но из встреч с множеством людей почему-то осталось мало друзей. И все, что любил, оставлял – в поисках еще иного, иных измерений.
…Свежее утро на даче, завещанной родителями, сырая жизнь, как у древнего человека. Вышел в сад – толстое кривое дерево сирени, вверху, в глубине его цветения сине-розовая исцеляющая бесконечность. Упрямые ростки из корня, распушенные листочками, лезут, забивают дорожку вдоль стены дома. Это свойство природы – упрямо давать ростки, вечно разрастаться. И с чувством вины он обрубал эти мешающие нежные ростки.
Он вспоминал его женщину, так наяву, словно она прижалась к нему. Ее предки канули туда же, что и его, фотографиями в старый родительский сундук. Мы с ней обрублены, завяли, лишенные этой сущности природы – упрямо продлеваться.
У них был ребенок. Когда он родился, она изменилась, была поглощена им, а муж сразу отошел в сторону.
Она всегда брала все на себя, влезая своими заботливыми руками в физическую жизнь мужа и родственников, которые пользовались случаем, чтобы выливать на нее свои беды и вытягивать из нее энергию, как вампиры.
Когда ребенок подрос, нашла новую заботу. Ежедневно бегала к тяжело больной тетке, плачущей от каждого прыщика: «Умираю!» – на ежедневную няню не хватало денег. Умирание не мешало ей ходить с трудом, делать укладку в ближайшей парикмахерской.
Приходила домой вымотанная. Ее близкая подруга выговаривала:
– Только без фанатизма! Будем ходить по очереди. Сейчас моя очередь.
Но тетка воспротивилась: «Лучше ты. Ты все знаешь, все рецепты, все ходы в больнице. Извини, я никого не оскорбила?
Подруга была оскорблена.
– Что делать? – вздыхала жена. И там рвут, и здесь. Тетя со мной плачет, а с посторонними любезничает – прямо светская дама.
– Вываливать на тебя весь свой мрак – это высшее доверие, – оптимистично внушал он, и предупреждал ее гнев. – Такова судьба тех, кто берет все на себя. Ты надежная.
Он говорил с любовной насмешкой:
– Рядом с тобой хорошо умирать. Потому что знаешь, что при этом делать. И поможешь до последнего, закроешь веки.
Только глубокая близость с человеком способна на беззаветную помощь до конца.
Он не удерживался и цитировал Густава Шпета:
– Чем ближе родственные узы, связывающие нас, тем больше места разумному, тем больше места пониманию.
Она фыркнула и выбежала из комнаты.
– Дурочка!
– Да, дурочка. А был бы ты генералом, я была бы генеральшей.
Даже в его постоянном желании секса с ней – было наслаждение не быть одиноким, потому что ему мало было лицезрения вида любимой женщины. Но и это не могло до конца истребить чувства одиночества, оргазм не давал окончательного ощущения близости в равнодушном мире.
Ему казалось, что в нем постоянно жило другое ощущение близости – с более широким миром, как у женатого Данте, пораженного красотой Беатриче, сияющей в ореоле райской сферы. В минуты вдохновения его душу озаряла эта почти физическая близость с миром, как в детстве, когда с обрыва смотрел на ослепляющий живым колыханием свет океана. Это некая «вечная любовь», куда стремится судьба, отвергая неуютную среду.
____
Бедная моя! Ты во мне будешь всегда. Какой же я был дурак! Не знал, что был счастлив, когда ты в окне прощально махала рукой, а я садился в машину, чтобы ехать на работу. Сейчас махнуть рукой некому.
____
В земной жизни Гордеева в последнее время угнетало одиночество. Началось это после смерти сына, разбившегося, когда упал, бегая по крыше вагона поезда. Передал ему чувство риска. Страшная, непоправимая вина: не углядели! С этого мига они несли эту вину, тяжко перетаскивая тела через оставшиеся годы. Вспоминал сына, когда тот бегал с дружками, забывая о родителях, и не подозревал, что возможно такое одиночество, хотя раньше ссорился с женой и уходил ночевать на работу.
Действия его стали сводиться к минимуму. Физическая активность стала скукоживаться, соратники, с кем дружил в молодости, избегают видеть друг друга, остыв или стыдясь морщин, особенно женщины.
Исчезло желание ходить на различные тусовки, разговаривать со знакомыми, – одни и те же споры, веселье, одна и та же выпивка. Зато стал вести гораздо более широкую жизнь в виртуальном мире, сидя за компьютером. Это было наслаждение – выискивать в книгах и Интернете какие-то ответы на давно назревшие и беспокоящие его вопросы, на которые не мог ответить сам, и механически записывал в дневники впрок то, что выискал, надеясь на дальнейшее осознание, когда будет мудрее.
Со временем он перестал ненасытно искать что-то, сознание его, непрерывно работающее, устало. Но оставалось некое плато памяти, инстинктивно и свято хранимое, над которым кипит словесная шелуха мнений, всегда поворачивающихся некоей властью элит куда нужно.
Люди все время оперируют одним и тем же блоком слов своего языка, и со временем он стал замечать усталость от мысленного повторения одних и тех же слов. И нужно что-то менять в передаче мысли.
____
И спохватился. Кому и что передавать здесь? Себе?
____
Жену свалил инсульт. Неизвестно от чего. Она слабела, уже не могла вставать с кровати.
– Какая молодая! – хваталась за сердце сиделка. – Жить бы да жить.
– Не каркайте! – приказывала суровая подруга.
Его спасала только работа, где он мог думать о широком мире, до такой степени, что одиночество исчезало в своих темных тупиках.
Раньше они думали о том, что с ними будет, когда кто-то из них умрет. В те минуты внешний мир исчезал, как будто не было в истории миллионов и миллиардов смертей, которые перемалывало развитие и шло вперед.
А когда умирала, вымолвила: «У нашего сыночка волосики вылезли перед смертью». Поседевшие пряди волос падали на склоненное лицо в слезах. И взглянула на него: «Что с тобой будет?»
Он вообще остался абсолютно один.
Подруга жены сказала:
– Переезжай к нам. Чего тебе здесь делать?
Он не мог влезть в ее шумную семью, такой тяжелый, со своей постной физиономией. У него своя судьба.
На работе встречал влюбленную в него юную секретаршу Алену, и эта девочка не была маленькой и незаметной. Воображал, как от них двоих пойдет новый род, и будет ветвиться, уходя в будущее сетью рода Гордеевых.
Но все в нем опадало при мысли об ушедшей семье. Разве можно вернуть утраченную целостность? Он чувствовал себя увечным.
____
Так чувствую себя и здесь, болтаясь в космосе.
У меня начались галлюцинации. Сын, живой, не погибший, тянул ручки ко мне и плакал. Его медленные движения были какими-то неживыми. Нет, не надо!.. Я тоже плачу, и в то же время счастлив! Видение слишком реальное, не похожее на галлюцинацию. «Эффект Соляриса».
13
После запрета в регистрации возможности Движения «Голос истины» резко сократились. Но оно продолжало действовать, под постоянным надзором. Разрешение на зал заседаний в Публичном доме независимых конференций было отменено, и они теперь ютились в разных помещениях, которые давали некоторые богатые сочувствующие.
Участники стали достойными и лояльными гражданами. Теперь на заседаниях они перешли на абстрактные и бесполые гуманитарные темы, вели вегетарианские споры.
Можно ли жалеть людей? – вопрошал Лева Ильин. – Эти скопища в городах и заброшенность в поселках, где всегда кто-то кричит от боли, и не ищет выхода, а невежество бесцеремонно вторгается в личное пространство.
Гордеев – все заметили, потух. Но он смог, как ему казалось, после упорных тренировок мышления – смотреть на мир отстраненно, со стороны, увидеть свое горе в ряду с другими, то есть сделать его общим, что почему-то облегчало муку. Это не смерть, это лишь тень заходит на солнце… И даже порой возвращался в свое прежнее состояние. Или делал вид, что он в порядке.
– Можно подумать, что ты не любишь самого человека, а не только невежественное в нем.
– Не все ли равно? Пусть будет по-твоему – невежество.
Гордеев продолжал смотреть отстраненно.
– Попробуйте влезть в сознание других людей, и все представится иначе.
Есть состояния души (тревоги за жизнь дорогих людей, страха их и собственной смерти), откуда исходят волхвования, мифы, религии, мистики, конспирологические убеждения в заговорах некоей единой мировой власти, и прочее, созданное в утешение человеку, разум которого не знает полных ответов и даже рождает чудовищ. Такой была и мечта большевиков, сделавших мифом свою историю, и выжегшая целую эпоху.
– Система уродует людей! – громогласно выдал из скрытого волосом рта анархист огромного роста.
– Тссс, – приложил ладонь к толстым губам маститый писатель с седой благородной шевелюрой и показал глазами куда-то в потолок. – Опять хотите приключений?
Лева сказал, глядя на упитанное лицо писателя:
– Но есть другая часть человечества, здоровая и сытая, не знающая страданий и голода. Там иронизируют по отношению к первым.
Писатель закинул ногу на ногу.
– Но там есть и правота нормального здорового человека, не надрывное добро, а более трезвое и рациональное деятельное сочувствие. Наверно, там родятся либералы, чуждые показному добру, самостоятельно делающие себя, жестокие в глазах "делателей добра".
– А не есть ли это обыкновенное равнодушие? – вставил Гордеев. Лева добавил:
– Это тебе не те состояния души, где бегут за полнотой существования, или чтобы просто поесть.
– Да, – самодовольно сказал писатель. – Они действительно возникают больше у той части человечества, где распространены страдания от тягот земного несовершенства: нищета, убогость, болезни.
Гордеев вспыхнул.
– Там ярость неприятия зла и героическое противостояние. Мать разделенных близнецов Гиты и Зиты в борьбе за их жизнь обрела такую стоическую крепость духа, что нашла силы внять просьбе умирающей Гиты: «Отпусти меня, мама».
Показалось, что писатель был равнодушен.
– Это состояние души обычных людей, которые "голосуют сердцем", находя поддержку в организованных праздничных плясках на площадях.
Гордеев смотрел ему в глаза.
– И есть самая большая часть человечества, живущая простыми радостями жизни, забывая о политике, идеологиях, системах, судах, радуясь сельским трудом, прогулкам в поле под небом, зовущим в светлое без всяких целей будущее. И плевать на «стан погибающих за великое дело любви». Как будто ее никогда не поглотят зловещие наплывы социального дерьма, где дерутся за место под солнцем.
Лева подхватил:
– И есть выкованные властью, как большевики, крепче стали, спортивные, подчиняющиеся дисциплине братвы, гордые своей страной и противостоящие враждебному окружению.
Гордеев спохватился, сказал примирительно:
–Человек ищет подлинные смыслы существования. И сплошь и рядом совершает глупости, находя иллюзии выхода.
Чувство бесполезности усилий сделало Гордеева неуверенным и угнетенным. Временные крахи его надежд на Земле – оказывались всегда тяжелыми, как будто навсегда, кончена жизнь.
14
Странно, несмотря на тесноту скафандра, он перестал ощущать тяжелые телодвижения, его тело удлинилось в долгой невесомости, словно он длинная фигура ангела, не ступающая на твердь.
Он снова забылся. Опустился на Землю, медленным шагом бредет по благодатному полю, вдыхает бесплотный воздух. Вот он у себя в саду, среди чудесных сиренево-розовых радостей пенных кустов гортензий и разноцветно-целебных циний. Тихий вечер.
Но почему-то здесь пустынно, нет жены и сына. Зеленые крыши дач видны сквозь ветви, в них не горит свет. Что это, куда делись люди? Только могильный шорох листвы. И его охватила жуткая печаль одиночества.
Он очнулся, в полной тишине бездны, где никогда не было человека. И охватило еще горшее одиночество, намного страшнее, чем там, в пустынном саду.
Но там, на Земле была другая безнадежность, на твердом плато планеты, в которой были, конечно, опустошения и угрозы, но не так, как здесь, в ледяной пустоте за стеклом шлема. То прошлое, бесконечно далекое, с тягостным чувством из-за порушенного равнодушием людей дела и исчерпанности его смысла, с гибелью родных, с бессонными пережевываниями случившегося, – показалось не самым страшным. Здесь в нем, неотвратимо удаляющемся в космосе, не было и той опоры. Бесконечное одиночество вдали от человечества!
____
Гордеев подумал о радиопередатчике под ранцем, и не стал включать, зная, что оттуда могут нестись постоянные бесполезные позывные.
Он тяжко заворочался в скафандре, ощущая себя залитым в желеобразной бездне за стенками герметичной оболочки. И стал неистово переворачиваться, с усилием, словно перебарывая воду. Странно, потею, как оживший в гробу!
За стеклом шлема теперь резче стали видны звезды – он понял, что подсветка по бокам шлема слабеет, наверно, падает энергия.
Конечно, можно уходить в иллюзии связи с яркими туманностями вселенной. Но так думают на земле, люди живы лишь иллюзиями. И все их творчество не задается мыслью о том, откуда берется их оптимизм бессмертия. Но он терял иллюзии.
Вот его свобода, абсолютная свобода! Без обязанностей, ответственности за кого-то, без радостей, боли и страданий! Достиг нирваны.
Освободился от гордыни юности.
Освободился от ненужной душе работы, сомнительной или ненужной для общества.
Отклеились равнодушные сотрудники, отрабатывающие свою барщину.
Не надо любить или ненавидеть власть, больно ощущая скрученные ею руки.
Освободился от забот страны, запретов, вины, скуки.
От собственных инстинктов, переживаний любви, страдания, голода. Самосохранения.
Освободился даже от земного тяготения.
Я не зажимаю ничьи права, и мне никто не связывает руки.
Теперь у меня нет выбора, ибо выбирать не из чего, у меня одна дорога – в пустоту мироздания.
Не надо искать окончательного смысла существования, над которым веками бьется человечество, находя лишь утешение в возможности спасения неким Неизвестным.
Состояние полного успокоения. Ничто не заботит и не тревожит.
Только боль из-за умерших родных еще колола сердце.
Он усмехнулся в стекло шлема. Действительно, свобода есть осознанная необходимость, нельзя жить в обществе и быть свободным от общества, как говорят марксисты. Но какой это пустяк во взгляде с большого расстояния.
Все это применимо только в человеческом обществе. А мне можно! Во мне еще остается внутренняя свобода – мыслить, воображать миры! В ней нет цепей внешнего мира. Могу осознать объективную необходимость хода событий, вызываемую непреложными, неотвратимыми силами, найти верное решение и потому не быть слепым рабом обстоятельств, жертвой катаклизмов вроде пожаров, заполонивших Сибирь или Калифорнию. Перед самой главной жертвой, – усмехнулся он. – Жертвой космоса.
Что это? Жизнь или уже смерть?
И вдруг ему страстно захотелось вернуть Землю к себе, в свой гроб. Ну, ты, как Гитлер, хотел бы унести мир с собой!
15
И планета Земля открылась ему удаляющимся чудом! Так вот она какая, моя планета!
А люди? Неужели мог не любить таких живых разумных существ, тот отстраненный от его переживаний муравейник, по которому прохаживается грубая лопата истории? Ведь, планета и люди неразделимы – только через наше духовное зрение можно переживать красоту земли!
Неотвратимо отдаляясь от Земли, Гордеев медленно начинал осознавать свою неотделимость от нее. И физическое тепло к неотделимому от нее человечеству. Понял неисполнимое евангельское изречение "любите врагов своих". Хотя, конечно, был не в состоянии простить «мерзейших негодяев», как выразился герой Шекспира.
Негативным человеческим отношениям придается слишком большое значение. Издалека они тонут в невообразимой энергии движения вселенной, включая человеческую (правда, это в его воображении, придумка космологов, на самом деле никакого движения в пустоте Гордеев не ощущал). Плохие отношения между людьми – это на самом деле не так важно, как всегда казалось в обществах, создавших кровавую историю. На удалении – на передний план выступает благоговение перед жизнью.
Сейчас, замкнутый в коконе скафандра, он увидел, что тот мир прекрасен – и теперь, и был в прошлом, и будет в будущем. Сотри случайные черты, и ты увидишь – мир прекрасен! А там, на Земле, мы в своих заботах почти не обращаемся к прекрасному! Кто-то сказал: «Я не могу понять, почему человеческие создания не замечают счастья и блаженства, которые разлиты повсюду в природе?»
***
Странно, его мозг не чувствовал, что он летит в тесном скафандре, и вне – ледяная пустыня, но успокаивал ощущением полной безопасности.
Во рту пересохло, и он попил через соломинку у лица – в шлеме еще было до половины литра воды.
Сейчас он забыл свое настроение горечи, злобы, мелкие радости и унесения в иллюзии – перед величием космоса и сияющей вдали планетой жизни.
Его внимание было повернуто в свои новые состояния, чтобы разобраться в себе.
История человеческая, если глядеть в упор, – слишком приземленная и кровавая, слепо следует инстинкту завоевания жизненного пространства. Вглядываясь в земную историю, увидел крошечного фюрера с прилепленным под носом квадратиком волос, как на сатирическом рисунке Кукрыниксов, и засмеялся. Увидел бы отсюда, и понял, как это бессмысленно – истреблять неполноценный мир ради верховной расы мистических германцев. Все это уляжется в траве забвения, недостойное величия пути человечества. Правда, неясно с учеными нацистами – конструкторами «Фау-2», погубившими тысячи жизней, которые были скрыты американскими спецслужбами, и работали над запуском «Сатурна» с людьми на Луну, сделавшими гигантский скачок человечества.
____
О чем я думаю? Зачем забираю эти случайные события на Земле в космос?
____
А на расстоянии видишь другое – расцвет городов, быстрое развитие общих и личных удобств, создаваемых технологиями, глобализация солидарности человечества.
Он понял только одно: жизнь надежна и спокойна, и не страшно умереть, когда ощущаешь себя во множестве других измерений, откуда смотришь на свое узенькое измерение со страхом перед жизнью и смертью.
Но что мешало нырнуть в иное измерение? Ах, да, мешает мочевой пузырь. Еле сдерживаясь, выпустил струю в мешочек. У себя под носом увидел капельки – что-то не сработало, и вспомнил, как смеялся над Михеевым. Смеется тот, кто смеется последним.
____
Гордеев изо всех сил старался отстраниться от себя, холодно наблюдать за своими страданиями: ага, тут у кого-то болят кости, затруднено дыхание. Брал себя в руки, дисциплинировал, изгоняя уныние. Хотя зачем? Чтобы устранить боль и продлить жизнь хотя бы на часок?
И добивался: смотрел на процессы земной реальности из колыбели, откуда вышло все живое – после миллионолетий преобразований, где развертывались все его силы. Как можно считать его пустым и чужим?
Что это такое – живое существо, возникшее из космоса (из комет, принесших из глубин космоса органические соединения и воду)? Что предстоит понять человечеству – в его готовности к саморазрушению? Чего оно хочет – в жажде выйти в иные просторы своего расцвета? А может быть, это выход самой вселенной – в расцвет разума?
Может быть, наше развитие – частица развития самой вселенной, свободной, ищущей вольной ощупью своего самовыражения. Разве не тот поток, что стремится снять тесноты социально озабоченной души?
Что-то ему страшно мешало – тяжесть в животе. И с облегчением вывернул себя в мешочек калоприемника, его вытерло чем-то влажным. Слава богу, нашел кнопку, чтобы выбросить мешочек через клапан в космос.
____
Ой, кто-то подслушивает мои воспоминания – не смеется ли надо мной?
____
Он шептал эти слова, глядя сквозь земные тупики фактов и процессов, «затыкающих бездну» и взрывающихся выходами в простор.
Мысленно произносимые слова разрывали цельность восприятия им космоса, и он замолчал, чувствуя некое единство с ним.
16
На космической станции туристы были охвачены смятением, проплывая один мимо другого.
Михеев, очнувшийся от страха за Гордеева, наслаждался своей безопасностью – не мог выйти из своей привычной оболочки, был уверен в своем бессмертии. И стукнулся боком о какую-то перегородку.
– Его спасут! – уверял он. – Родина не забудет!
И тут же замолкал.
– Нечего скулить! – орал Марков. – Главное – борьба! Что ж, если умереть, то не сдаваясь.
– Особенно, когда умирают другие, – мрачно сказал Лева Ильин. Он один смутно догадывался, что уход друга не случайность, а сознательное намерение. В его памяти печально преследовал неотвязный образ надежного и умного друга, которого почему-то нет рядом, и не будет никогда. Не с кем больше поспорить, открыться полностью во взаимном доверии.
Американец Алекс сделал упрямое лицо воспитанного в другой культуре, не способного стать на точку зрения чужого народа, и горько сказал:.



