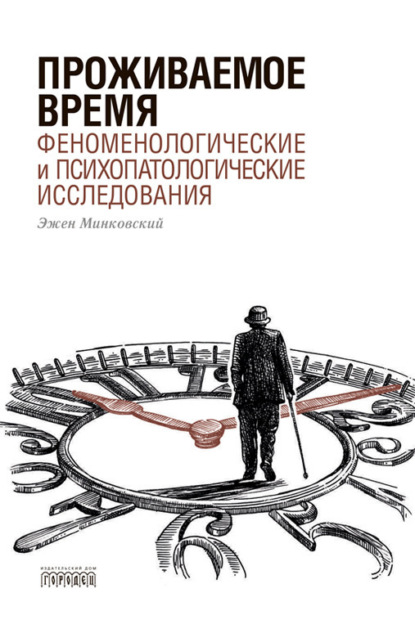
Полная версия:
Проживаемое время. Феноменологические и психопатологические исследования
Итак, наши исследования сейчас получили четкую ориентацию: в качестве объекта у нас выступят промежуточные феномены, описанные выше.
Путь, по которому мы будем двигаться, чтобы достичь этой цели, также проложен. Проецируя на становление хоть какое-то простое отношение рациональной природы, мы выявляем феномен, отвечающий за объединение обоих. Такие феномены – это можно предвидеть изначально – должны обладать особыми характеристиками; необходимо наличие у них, если можно так сказать, двух граней: одна – чтобы сохранить их временный характер и способность быть устойчивыми к методам дискурсивного мышления, дабы они могли противоречить сами себе в случае попытки сводить их полностью к отношениям рационального характера; с другой стороны, они должны проявить себя именно как переносчики отношений этого порядка, позволив тем самым сблизить их с пространством.
Я надеюсь, что последующие страницы, дадут возможность лучше разобраться в методике, которая применяется в ходе нашего исследования.
4. Становление и «бытие единства или множества»
Феномен движущейся длительности и последовательности. Принцип непрерывности и повторности
Давайте сейчас обратимся к простым признакам: это «бытие единства» и «бытие множества» или, по причине его относительной простоты, «бытие двух». Попробуем объединить эти признаки со становлением. Можно заметить, что оно не только противопоставляет им основание для отказа в соглашении: здесь мы сталкиваемся с феноменом движущейся длительности, либо, если вам так больше нравится, с потоком того, что длится, а также с его последовательностью.
Все, что является единством, по отношению к становлению длится в движении или движется по всей длине; а все то, что пара, относительно времени последовательно идет одно за другим. Иначе говоря, все, что длится в движении, обозначается относительно времени как единица, а все, что представляет собой последовательность, обозначается как два или множество.
Такое «бытие единства» может точно так же охватывать содержимое моего сознания, будь то восприятие, чувство или любое другое состояние души, которое мое целостное «я» или другие «я», либо какое угодно событие внешнего становления или даже всего мира в целом; главное, чтобы они были рассмотрены с подходящим временным аспектом. Здесь важно понять, что мы в данном случае рассматриваем не содержание единицы, но признак бытия единицы относительно проживаемого времени. Кроме того, состояние нашего сознания, а также события, которые происходят вокруг нас, длятся в движении, тогда как неизменяемые объекты внешнего мира просто длятся, в них не может проникнуть живой поток времени.
Временный характер, а вместе с тем и простейшая природа обоих феноменов, упомянутых выше, являются очевидными. Это вытекает из феномена последовательности. Что же касается феномена движущейся длительности, то здесь дела обстоят намного сложнее, как минимум из-за того, что в нашем языке нет конкретного термина, которым можно было бы обозначить данный феномен. Поэтому и возникает странное впечатление, что он состоит из двух различающихся элементов, а именно: длительность и поток. По этой причине Фолькельт определяет длительность как невременной фактор (ausserzeitliches moment), признавая, однако, что длительность в какой-то мере относится ко времени. Он рассматривает ее частично, основываясь на принципе: все, что является временем, должно видоизменяться, меняться, непрерывно двигаться; этот принцип, о котором мы уже говорили, представляет собой видение времени на уровне сознания, но никоим образом не основывается на его природе.
По сути, здесь идет речь о простом феномене, не поддающемся разделению на части. Именно на этом основано и большинство рассуждений Бергсона, касающихся различий между мыслимой длительностью с ее противоположностями и проживаемой длительностью с ее неизменяемой живой структурой. Нам не остается ничего другого, кроме как вспомнить слова самого Бергсона, где он помещает феномен длительности и последовательности в одну плоскость: «Нет значительной разницы между прошлым одного или другого состояния, они по-прежнему пребывают в том же состоянии»; или вот еще: «Возможно представить себе последовательность, не разграничивая ее, можно представить ее как взаимное проникновение, как целостность, как близкое объединение элементов, каждый из которых является показателем целого, различаясь и отделяясь лишь в мышлении, способном все разделять».
Таким образом, переживаемая последовательность, несмотря на то, что она состоит из «бытия двух», не слагается из двух различных длительностей, следующих одна за другой. Утверждать такое – значило бы совершить попытку разложить и рационализировать изучаемый феномен больше, чем допускает его природа. При последовательности выделяют два события, но ни одно из них нельзя постичь независимо от другого. Это как если бы мы, стоя на вершине, откуда можно только догадываться, что собой представляют оба склона горы, но не исследовать их, в конце концов поняли бы, что находимся в месте, которое их разделяет. Точно так же движущаяся длительность не может быть разложена на множество последовательностей; иначе бы изменилась и была неправильно оценена сама ее природа. Как только речь заходит о времени, следует избегать всех поспешных арифметических действий.
Теперь стало ясно, как изучаемый нами феномен может иметь «две грани», что мы позволили себе утверждать в конце предыдущей главы.
А. – Иррациональная сторона обоих феноменов четко прослеживается на основании всего вышесказанного. Минимальная попытка, совершенная, чтобы преодолеть признаки «бытия единства» или «бытия двух», позволив им развиться, что, по сути, совершенно естественно для дискурсивного мышления, подводит нас к противоречию с образом существования этих феноменов в реальности. Они проявляют себя с рациональной точки зрения, хотя сами по себе являются противоречивыми.
Эту мысль можно подчеркнуть и более очевидным способом. Вот умозаключение, которое делается довольно часто: мы только что констатировали последовательность А и В; констатация последовательности А и В позволяет нам сказать, что А может существовать только при наличии В; последовательность устанавливает отношения между А и В; но для установления каких-либо отношений между двумя понятиями необходимо, чтобы оба эти понятия существовали в сознании; а это совершенно невозможно в случае отношений последовательности; таким образом, ни при каких обстоятельствах мы не можем утверждать, что существует незамедлительная последовательность двух событий. Однако мы говорим об этом каждый миг своего существования.
Психология всегда сталкивалась с этой проблемой, сводя, в силу своих установок, все решения к тому, чтобы принять мысль, что событие А оставляет мнемонические следы, которые замещаются чем-либо, когда наступает событие В. Даже опустив, что таким образом мы наделяем память способностью искусственно растягиваться, речь здесь идет всего лишь о псевдоразделении, поскольку, какова бы ни была природа следов А, необходимо, чтобы в сознании уже существовало предчувствие наступающей последовательности, дабы иметь возможность в таком случае объяснить наличие этих следов рядом с В в аналогичном поперечном срезе сознания, как принято говорить; но В + следы А сами по себе не могли бы стать поводом для появления идеи о последовательности. Конечно, допустимо обратиться к сфере воспоминаний. Но в своем сознании мы не сможем найти ничего из наших воспоминаний, потому что в жизни последовательность двух событий, а также и переживаемые воспоминания, чаще всего относятся к более удаленному прошлому, выступают в качестве пустого интервала между событием, о котором мы вспоминаем, и настоящим, которому оно противопоставлено, словно они не применимы к «нынешнему» прошлому, если можно так сказать, включающему в себя незамедлительную последовательность.
Со своей стороны, в этой проблеме я не вижу ничего, кроме выражения иррационального характера последовательности как временного феномена. Умозаключение, приводящее к этой идее, на самом деле – всего лишь одна из попыток применить к понятию времени постулаты мышления, что, как мы уже видели ранее, в конечном итоге приводит к пониманию того, что время содержит противоречие внутри себя. Если я не ошибаюсь, главная идея всех этих ложных умозаключений состоит в попытке добавления к феномену времени отрицания, которого, по сути своей, оно не может содержать. Проживаемая последовательность – это вовсе не отношения между тем, что есть, и тем, чего нет. Такое отношение, как, впрочем, и любые другие отношения временного порядка, появляется, только когда мы хотим подчинить его разуму, а отрицание, добавленное к понятию времени, – лишь выражение неудачи, к которой, в конце концов, и приводят подобные попытки. Стоит сделать такую подстановку хотя бы раз, чтобы собственными глазами увидеть все псевдопроблемы, добавленные к понятию времени; в результате, каким же счастливым можно почувствовать себя, решая потом эти проблемы, используя, как deus ex machina, память в качестве посредника, своего рода рационального механического аппарата, в чем опорой становится приведенный ранее элемент – отрицание. В такой ситуации психологи обращаются за помощью к натуралистам, они рассматривают память как первичную функцию психики упорядоченной материи, порождающей сознание, которое, в частности, воспринимается как генератриса понятия времени.
Все, что было только что сказано по поводу последовательности, может быть подвержено mutatis mutandis по отношению к феномену движущейся длительности. В данном случае достаточно разложить эту длительность на серию мгновений, следующих одно за другим. Но не будем настаивать на этом далее, дабы избежать ненужного повторения.
В. – Теперь перейдем ко второй грани, а именно – к характеристикам, которые возникают у нас перед глазами, когда мы намеренно сильно влияем на признаки «бытия единства и множества» и пытаемся определить их мышлением.
Естественно, после определения последовательности как отношения между тем, что есть, и тем, чего нет, мы можем представить себе целый ряд последовательностей, вновь приходя к идее калейдоскопа. Но на самом деле все происходит иначе. Если, совершая простое действие, я попытаюсь определить или представить себе проживаемую длительность либо последовательность, они обе, по причине их мобильности и временного характера, укроются от такой моей попытки. Становление никоим образом не поддается требованиям бытия. При этом наша неудачная попытка не ощущается нами просто как «неудача», как нечто, что невозможно осуществить, как нехватка средств. С позиции становления, такая неудача обладает особым оттенком, иначе говоря, имеет положительное содержание; для нас она выражена в форме феномена, именуемого непрерывность становления.
Будет верно, если мы попытаемся определить через мышление конкретные события с их временными характеристиками. Они ускользают и исчезают. Но, каким бы парадоксальным это ни казалось, время не может исчезнуть полностью. Мы далеки от того, чтобы испытывать смятение от такой головокружительной скорости любого из его элементов; напротив, мы можем видеть, как время развертывается перед нашими глазами, видим, как становление выходит за пределы, бесконечно обгоняет любую проживаемую длительность и любую последовательность, которые мы пытаемся определить, не сокращая их до «ничто», как это происходило в соответствии с принципами разума, не сокращая бесконечно огромное до невероятно маленького, а продолжая их, каждый раз начиная сначала. Именно сейчас мы обнаруживаем простое значение феномена проживаемой непрерывности, он становится понятен нам, становится правдоподобным.
Иначе говоря, по мере того как последовательности непрерывно продолжаются, мы наблюдаем не калейдоскоп или зыбучие пески, а, наоборот, отмечаем возникновение факторов подобия, постоянства, протяженности, согласованности, я бы даже сказал – однообразия, которые возникают оттуда и проникают, причем абсолютно бесконфликтно, в становление. Подобная монотонность, возможно, однажды приведет к тому, что жизнь предстанет перед нами в серых тонах и нам будет казаться, что каждый следующий день в точности похож на предыдущий. Однако сейчас речь идет об отдаленных последствиях. Этот момент для нас с вами наступит нескоро, мы не испытываем скуки и уж тем более тревоги, о которой говорилось в теории калейдоскопа, мы чувствуем умиротворение, им наполняются наши души, когда мы ощущаем непрерывность становления. Находясь внутри этой непрерывности, мы вполне довольны, нам очень удобно так жить; а упомянутое чувство безопасности и умиротворения, по сути, соответствует среднему темпу нашей жизни относительно времени, практически доказывая тот факт, что, рассмотрев все нюансы, нам удалось точно определить истину.
Теперь мы можем перейти к более конкретному анализу. Когда речь идет о процессе восстановления двух прошедших событий, прежде всего мы максимально живо воскрешаем в памяти картинки этих событий, но у нас нет возможности таким же образом восстановить в памяти отношения последовательности, которые их связывают между собой; эти отношения мы можем пережить вновь, воссоздать, так сказать, подумав про себя, например: «Сначала было А, и только потом В», – либо применяя любые подобные схемы. Если мы пытаемся восстановить прошедшую последовательность, нет ничего проще: нужно лишь пережить новую последовательность, а это реально делать сколько угодно раз. Ничто не может этому помешать, ибо живая последовательность всегда при нас, причем она выступает не как изолированная и конкретная, а как нечто, способное проявляться при необходимости; именно так возникает представление о непрерывной повторяемости, о непрерывности, движимой временем.
Феномен непрерывности, безусловно, сближает нас с пространством. Но это всего лишь сближение и никак не совпадение. Проживаемая непрерывность вовсе не является примером динамизма. Дело в том, что мы ее проживаем не как явление само по себе, а скорее как видим. У нас в распоряжении нет установленной непрерывности, мы распоряжаемся только временем, которое непрерывно движется и обновляется через свои составляющие.
Точно так же, если бы непрерывная повторяемость навела нас на мысль упорядочить непрерывность по количеству элементов, то они не могли бы полностью слиться, поскольку ни один элемент из всего этого предполагаемого множества не определен достаточно для того, чтобы дать нам возможность сосчитать все элементы: каждый из них всего лишь непрерывно движется перед нами, отсюда и возникает идея о множественности, но в то же время это подчеркивает их скоротечный и эфемерный характер. Ни один из элементов не мог бы служить естественной точкой отсчета, чтобы посчитать остальные.
Подведем итог.
Между становлением и бытием, между временем и пространством в нашу жизнь один за другим приходят феномены пространственно-временного порядка. Эти феномены объясняют нам самым простым способом, почему и каким образом возникает мышление, они могут ассимилировать время и пространство.
Феномены, изучаемые до настоящего момента, образовывают словно два звена между временем и пространством; это – продолжительность и проживаемая последовательность, с одной стороны, и проживаемая длительность – с другой.
Я с удовольствием признаю, что в нашей жизни, наполненной гармонией, все эти разные звенья проникают друг в друга. Чтобы различить их, необходимо абстрактное усилие; но без такого усилия мы не могли бы ничего сказать о времени и ничтожно мало знали бы о прочих феноменах. Кроме того, кажется, бессмысленно пытаться уточнить, какое же из этих звеньев следует выделить, какое из них относится ко времени, а какое – к пространству. Мне так и хочется сказать: это, скорее всего, вопрос вкуса. Думаю, все мы могли бы начать с определения длительности, чтобы из него вывести последовательность и продолжительность, позволив ей сжаться до этих феноменов, – подобно тому, как начали изучение с продолжительности и последовательности, чтобы позволить им проявиться в длительности. Основная часть наших рассуждений базируется не только на представлениях о том, где размещены эти два звена, но в большей степени на условиях, подтверждающих, что их на самом деле два.
Связь, объединяющая эти два звена, представляет собой особый принцип, который мы обозначили как принцип раскрытия.
Идею о наличии двух звеньев мы встречаем и в работах П. М. Жане[11]. Только он это представляет в несколько ином аспекте. П. М. Жане рассматривает проблему времени под несколько иным углом, чем я. В первую очередь в исследовании П. М. Жане речь идет об изменениях видов поведения во времени. В данном случае интересным для нас является тот факт, что П. М. Жане описывает два звена, используя термины «неустойчивая» и «устойчивая» форма времени.
Позволю себе кратко изложить его концепцию.
Рассматривая вопрос памяти, М. Жане вовсе не основывается на традиции, из-за чего возникает две точки зрения. Во-первых, он в этом не видит ни первичного феномена, ни отправной точки всех изменений понятия времени; он определяет память как чувство продолжительности, к которому оно может присоединиться только в ходе разнообразных изменений, правда, лишь претерпевая различные улучшения. Кроме того, для М. Жане память – это всего лишь способность сохранять, воспроизводить и узнавать; она представляет собой то простое бессознательное повторение действий, которое предшествует формированию склонностей и привычек у животных. На самом деле имеет место совершенно другой процесс. Память, в прямом смысле слова, присуща исключительно человеку и представляет собой особый вид поведения, тесно связанный с функциями речи, а также – с умением рассказывать. Основы ее мы обнаруживаем в социальном типе поведения, формирование которого началось с момента, когда человек осознал все выгоды того, что часовых он может размещать не в самом лагере, как поступают животные, живущие в группах, но за пределами лагеря; такой тип поведения, безусловно, требует способности предупреждать отсутствующего об опасности в устной форме либо каким-то образом отдавать ему приказы.
Получается, что умение рассказывать – это простейший механизм памяти. А в ходе эволюции данный механизм все более и более усложняется. Из него в первую очередь возникает способность составлять описание, суть которой не только в передаче простых приказов отсутствующему, но и в оценке складывающейся ситуации.
При этом умение рассказывать и описывать относится к простейшему виду памяти, так как основывается на объектах, которые могут длиться. Таким образом, в первых проявлениях памяти отсутствует понятие исчезнувшего прошлого. Но память продолжает развиваться, и возникает способность составлять рассказ. Данная способность основана на воспроизведении исчезнувшего прошлого, понятие, которое человечество открыло в ходе длительной эволюции, понятие, которому все сегодня безропотно доверяют, хотя даже оно спорно.
Скорее всего, первые составленные рассказы – это рассказы о победах, которые могли быть восприняты обычными слушателями, испытывающими чувство гордости и радость успеха, как если бы они сами были победителями. Этим и объясняется столь парадоксальное на первый взгляд обстоятельство, что в ряде случаев возникает некоторая необходимость подумать о чем-то несуществующем, а конкретно в данной ситуации – об исчезнувшем прошлом.
Основная задача рассказа – заставить живущих сейчас людей испытать те чувства, которые они могли бы испытать, если бы сами присутствовали при событии; значит, рассказ должен быть составлен соответствующим образом. Для этого в первую очередь нужно научиться располагать в рассказе события в соответствии с хронологическим порядком. При таком противопоставлении исторических и хронологических фактов возникает основной фактор: временное отношение между «до» и «после», которое и станет отправной точкой нового этапа значимого развития в изучении памяти и времени.
Здесь обозначен один очень важный этап эволюции памяти. Когда мы изучили отношения «до» и «после», когда узнали об упорядоченном объединении и хронологической последовательности событий, это открытие показалось нам столь забавным и стимулирующим воображение, что мы принялись развлекать себя составлением рассказов, чтобы впоследствии поведать их окружающим. Тут мы обнаруживаем причины возникновения игр воображения и мифов, которые часто встречаются у детей и среди примитивных народов.
Так память, простейшим образом связанная с действиями, постепенно превращалась в игру, поскольку составление рассказов – это не всегда простая задача, а далее она стала неустойчивой, все более и более укрепляясь в этой неустойчивости. Таким образом, игра воображения – это стадия памяти, развитая внутри нее самой.
Изначально может показаться, что речь здесь идет об общем правиле, тесно связанном с эволюцией человеческого поведения. Точно так же речь, тесно связанная по механизму возникновения с действием, стала впоследствии, в силу своей стимулирующей функции, игрой, видоизменившись до умения общаться, что, по сути, кроме выполнения стимулирующей функции, не имеет никакой пользы. Однако речь не могла довольствоваться подобной неустойчивой формой, поэтому возникло утверждение, которое снова смогло связать ее с действием и вновь наделило устойчивостью.
Что же касается памяти, то стадия, связанная с игрой воображения, для нее является всего лишь промежуточной; память не могла бы подчиниться новой практике, не могла бы не выйти из зоны неустойчивости, куда ее поместила способность играть с воображением. И здесь понятно, что она достигла своей цели. Отношение между «до» и «после» полностью относительно, ибо любое «до» могло быть «после» по отношению к другому «до»; именно такая относительность и стала основой для игр воображения. Чтобы избавиться от нее, в обязательном порядке необходимо ввести абсолютную величину, своего рода границу, относительно которой было бы возможно ранжировать однозначным способом прошлое и будущее. И только таким образом можно вывести понятие настоящего.
Следовательно, неверно видеть в «настоящем» совершенно ясное и данное понятие, так как это понятие возникло значительно позже в процессе эволюции памяти и является чем-то с очень сложной структурой. «Настоящее» для памяти – то же самое, что «утверждение» для речи.
Теперь важно определиться, что же такое на самом деле «настоящее». Ранее было сказано, что оно является действием, которое происходит в настоящем. Это верно, но этого недостаточно. Все живые существа совершают действия, но не все способны представить себе настоящее; к примеру, мы можем выполнять огромное количество действий, не говоря себе, что совершаем их именно в настоящем. Получается, не существует способа, чтобы отделить настоящее от простого действия.
Когда я говорю: «это мое настоящее», – я всего лишь составляю рассказ о себе самом либо о ком-то еще, о своих действиях в тот самый момент, когда что-то делаю. Таким образом, настоящее – это составление рассказа о действии, которое мы совершаем, в тот самый момент, когда выполняем его. Настоящее – это особый акт, объединяющий способность составлять рассказ и действие. А так как настоящее частично включает в себя составление рассказа, то оно в обязательном порядке связано и с феноменами памяти. Это может показаться парадоксальным: каким образом поместить память в настоящее и зачем рассказывать о действии в момент его совершения? Однако именно в данном месте мы и нуждаемся в действии, позволяющем объединить в одну единую историю настоящее, прошлое и будущее, которые по отдельности являются лишь подборкой сочинений и фантазий. Настоящее вновь делает память более устойчивой, перемещая ее в область практических действий.
Итак, настоящее представляет собой сложное комплексное действие. Например, больные, которые боятся испытать боль, опасаются настоящего и предпочитают жить в прошлом, или еще лучше – в будущем, строя планы и не задумываясь о том, как их осуществить. Аналогично, психически неполноценные люди часто обладают фантазийной памятью, в которой присутствуют прошлое и будущее, но нет настоящего; они прекрасно живут без него, их это совершенно не беспокоит. Подобные факты еще раз подтверждают идею[12], что настоящее – сравнительно раннее приобретение, а вовсе не простой естественный процесс.
Возвращаясь к теории памяти, на сегодняшний день мы выделяем два вида памяти: первый – фантазийная память, в которой все относительно, прошлое и будущее не привязаны ни к какому настоящему, в силу чего проявляют себя подвижно; второй – устойчивая память, определяемая при помощи основной операции через образование настоящего, которое такая память обязана учитывать; ограниченная, так сказать, этим требованием, устойчивая память всегда, в большей или меньшей мере, более узкая, но именно она тесно связана с реальным временем во всем своем многообразии.
5. Становление и «бытие как элементарная составляющая всего»

