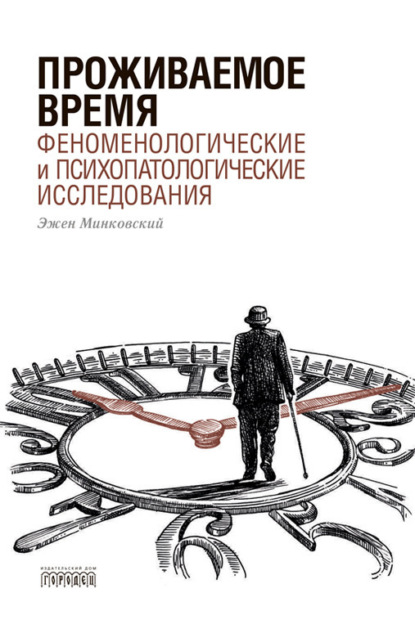
Полная версия:
Проживаемое время. Феноменологические и психопатологические исследования
Так нам удалось сделать шаг вперед, это позволило говорить о философской направленности современной психопатологии. Однако данный термин может привести к недопониманию явления. Некоторые специалисты, преданные тому, что принято называть «фактами», и гордящиеся тем, что слово «философский», на их взгляд, отчасти обладает уничижительным значением, откажутся от этого мнения и даже станут его критиковать. Они не учитывают того, что сведения, выставленные напоказ в психопатологии так называемого «философского течения», вовсе не абстрактны, они тоже являются «фактами», просто иного порядка; если кому-то так больше нравится: это факты, которые в любом случае дают нам возможность значительно приблизиться к пониманию миров, порой странных и недоступных для восприятия с первой попытки, миров, в которых живут больные, в первую очередь, страдающие психическими расстройствами. На основании этого, именно психопатология предоставила нам честь подвести меня самого, а также и моих коллег психиатров-философов, к живой реальности, раскрывающейся во время контактов с больными, освободив нас от засилья философии в чистом виде. При таком рассмотрении мое предисловие обретает принципиально иное значение. Дело в том, что ни при каких обстоятельствах не стоит пытаться просто и конкретно противопоставлять сведения и методы, выделенные тем или иным философом в качестве значимых, соотнося их с областью психопатологии. Это непременно приведет к «гиперфилософичности» психопатологии, к опасности, которой я всячески пытаюсь избежать. О том же я постоянно напоминаю и моим младшим коллегам, только начинающим двигаться по этому непростому пути, объясняя, что подобные действия могут привести к полнейшей деформации психопатологии как науки. Истина и методы, которых следует придерживаться, существуют отдельно. Мне кажется, в наше время все сильнее и сильнее заявляет о себе новое мощное направление научной мысли, позволяющее осознать, что все отдельно существующие науки, объектом изучения которых является человек, имеют тенденцию к тому, чтобы превратиться в гуманитарные науки, и это не пустые слова. Я говорю об «антропологическом направлении». Центральным объектом наших исследований отныне является не просто индивид с его человеческим статусом, а человек вместе с его судьбой и призванием, которого мы изучаем в рамках философии, а также в рамках психологии и психопатологии, учитывая тот факт, что все эти дисциплины пытаются стать гуманитарными. Философы, чей «научный язык» достаточно часто непонятен нам, словно он существует как бы отдельно от нас, изучают человека со своих позиций, имея, кстати, больше возможностей, чем мы с вами, для того, чтобы указать направление движения вперед. В таком случае, почему мы не можем пользоваться источником, который принято применять в философии? Как раз наоборот: мне это кажется совершенно естественным. Повторю еще раз: речь не идет о каком-то точном и абсолютном копировании. Каждая область знаний обладает присущими ей особыми характеристиками, подчеркивающими ее значимость. Сведения и методы, которые, так сказать, были позаимствованы из философии, обязательно будут проявлять себя в образе, свойственном и типичном для нашей области знаний, что потребует от них многочисленных изменений, в силу чего они становятся для нас очень полезными и инструктивными. Именно эту направленность мне и хотелось подчеркнуть в подзаголовке «Проживаемого времени», именно этой направленности я остался верен в моей самой последней книге «Трактат о психопатологии», которая была опубликована в издательстве «Университетская пресса Франции» («Presses universitaires de France») в декабре 1966 года.
Однако мне остается только надеяться, что, в отличие от ее автора, книга «Проживаемое время» сохранила свою первоначальную бодрость и актуальность, пожелать, чтобы ее путь был простым и легким, чтобы современный читатель принял ее хорошо.
Эжен Минковский
Предисловие
«Как бы мне хотелось, чтобы дебютные книги не были восприняты только лишь как незавершенная проба пера, когда авторы выносят на суд литераторов свои чувства, а затем, выслушав разные точки зрения, вновь принимаются за работу, чтобы довести свои творения до совершенства или до определенного уровня».
«Логика Пор-Рояля»Проблема времени и пространства является центральной проблемой психологии, философии и, я бы сказал, всей современной культуры. Будучи генератором глубочайшего конфликта нашего существования, эта проблема в обязательном порядке должна быть проанализирована каждым из нас. Развитие техники и научные открытия стремятся победить время и пространство. Мы испытываем восторг, пользуясь постоянно появляющимися новинками технического прогресса, чем не можем не восхищаться. Однако подобное чувство благодарности нельзя назвать полным. Слишком часто мы испытываем глубокое отвращение, как если бы ритм жизни, навязанный развитием прогресса, жестоко давил на нас. Причина этого в том, что развитие прогресса ущемляет развитие прочих значимых человеческих ценностей. О, нет, не пытайтесь получать удовлетворение от того, что имеете. Иногда, чтобы обозначить одну из отличительных черт нашей эпохи, мы прибегаем к термину «варварская наука» и тут же с сожалением вспоминаем о возможности «сбавить темп» и о развлечениях в «старые добрые времена». Где-то в глубине души мы явно ощущаем растущее чувство протеста; нам вновь хочется отвоевать свое право на «время», право, которое, как оказалось, украла у нас современная жизнь.
А что бы мы могли сделать с этим отвоеванным временем? Впрочем, нужно ли на самом деле отвечать на данный вопрос, разве недостаточно того, что он уже существует? Нужно ли на самом деле «знать», что мы сделаем с этим временем, дабы понять истинную цену «свободного времени», того свободного времени, которое не совпадает по значению с отдыхом, необходимым нашим утомленным мозгу и телу, и уж тем более не совпадает с понятием скуки, однако позволит нам полностью расслабиться, насладиться прелестями жизни, слиться с ней воедино, побыть наедине с самим собой, заглянуть внутрь своего существа, поразмышлять, в конце концов, да так, чтобы не было необходимости искать кого-то, кто объяснил бы нам смысл наших размышлений? Нет, определенно, нам не хотелось бы отвечать на этот вопрос, так как дать на него ответ – значит составить какую-то программу, создать что-то, что может быть выполнено быстрее или медленнее, и снова подтолкнуть технический прогресс, выковать еще одно звено связывающей нас цепи, исключить любую возможность ощутить что-то непредвиденное, неясное, чарующее, исключить сотворение свободного времени, в котором мы так нуждаемся.
Здесь наука встречается с техническим прогрессом. Будучи порождением абстрактного мышления, она оставляет в стороне количественный феномен, не подчиняющийся законам дискурсивного мышления. Применяя к изучению понятия «времени» те же методики, что и к интеллигибельному пространству, он лишает время внезапности и, как говорил Бергсон, нивелирует все его естественные богатства. По мере того как он развивается, как формулируются все более и более общие законы, он все больше отдаляется от живого источника, из которого возник, чтобы в конце концов прийти к концепциям, представляющим собой лишь конечное выражение этой «абстракции», вытекающей из реальной жизни. В таком случае, необходимость возвращаться в прошлое не ощущается. Развитие точных наук и технического прогресса заставляет нас испытывать восхищение, но никак не радость. Увы, ощущая последствия этого прогресса на себе, мы испытываем желание отвести взгляд от идеала скорости и от времени, заполненного до предела, так же быстро, как и от «четвертого космического измерения», чтобы иметь возможность дать задний ход, чтобы перевести взгляд на… Но на что же мы хотели бы его перевести? Тут важно не дать поспешный ответ. «На природу», – чуть было не сказал я, – при условии, что эта формулировка не будет воспринята буквально, что необходимость вернуться назад не будет заменена «программой», цель которой возродить «старые добрые времена» или возвратиться к более простой жизни; вот здесь мы как раз и рискуем попасть в свою собственную ловушку; в данном случае «вернуться назад» – значит быть мгновенно поглощенным «прошлым», с исторической точки зрения, даже не попробовав проанализировать феномен времени, как если бы этот возврат в обязательном порядке должен быть связан с временным значением. На самом деле прошлое, когда оно еще было настоящим, ничуть не более притягательно, чем унылое настоящее; как мне кажется, о «старых добрых временах» мы говорим лишь потому, что, сами того не понимая, проецируем туда то, от чего хотим отказаться в нашем собственном настоящем. Более того – и этот аргумент, наверное, еще более значим: нам не удастся, ни при каких обстоятельствах, перенести в прошлое идеал, существующий в нашем воображении только в будущем, ибо это противоречит самой его сути. Нам не хочется ни отрицать, ни отрекаться, ни разрушать, ни двигаться назад – вот и еще одно доказательство варварства. Кроме того, уж не имеет ли наше желание попасть в прошлое одну-единственную цель: вновь прикоснуться к жизни и ко всему, что в ней есть «естественного» и «примитивного»? По сути – вернуться к первоисточнику, из которого ключом бьет не только сама наука, но и все прочие проявления духовной жизни, и, пока наука не подчинит их своим законам, успеть заново изучить основные виды примитивных, на наш взгляд, взаимоотношений среди всего многообразия феноменов, из которых, собственно, и состоит жизнь, посмотреть, нет ли у нас возможности добыть что-нибудь еще, что не было создано наукой, не бросаясь при этом ни в примитивный натуризм, ни в мистицизм, порой удаленный как от науки, так и от реальной жизни, и «рационально оценивая» изображения, что бы это ни было. Мы хотим посмотреть, не используя «никакого оборудования», и рассказать о том, что видим. Здесь, несмотря на внешнюю простоту, перед нами стоит очень сложная задача.
На основании подобных рассуждений в наши дни возникли феноменология Гуссерля и философия Бергсона. Первая стремилась изучить и описать все феномены, из которых состоит жизнь, не признавая в ходе изучения ограничений и указаний, ни под каким предлогом, какова бы ни была его природа и насколько бы это ни выглядело законно. Вторая с удивительной дерзостью противопоставила интуицию и разум, живой и неживой мир, время и пространство. Оба эти течения стремительно и всерьез повлияли на всю современную научную мысль. Думаю, произошло это потому, что они соответствовали реальной глубочайшей потребности нашего бытия.
При рассмотрении понятия времени в частном порядке именно эти мыслители помогли нам осознать, что выражение «победить время» вовсе не сводится к получению дополнительного времени для развлечений и времяпрепровождения; оно может быть рассмотрено лишь как критический анализ различных суждений относительно этого феномена. Как мне кажется, в наши дни, только заплатив такую цену, можно получить возможность высвободиться из рабских оков, в которых нас удерживает современная культура, навязывающая свое видение времени. В данном случае речь идет не о том, чтобы получить немного свободного времени, а о том, чтобы научиться спонтанно и свободно жить во времени. Проблема времени, несмотря на всю его абстрактность, стала, тем не менее, проблемой наиболее связанной с реальной жизнью, одной из самых личных проблем для каждого из нас.
Для меня в течение долгих лет именно эта проблема была основной отправной точкой моих собственных научных изысканий. В июле 1914 года, накануне мобилизации, я заканчивал исследование по теме «Основные составляющие понятия „время-свойство“». Выражение «время-свойство» само собой отражает, каким образом повлияли на меня, еще тогда, в те далекие годы, труды Бергсона. И с тех пор это влияние только увеличивалось. Оно было настолько значительным, что порой, перечитывая труды Бергсона, я обнаруживал идеи, которые ранее мне казались собственными, более того, иногда мучаясь сомнениями, я задавался вопросом: а удастся ли мне привнести в эту теорию что-то свое? Именно Бергсон помог мне избавиться от всех сомнений. «Подобная философская идея не может быть обоснована в течение одного дня», – писал он в своих работах. «В отличие от различных систем знаний в чистом виде, каждая из которых представляет собой труд гения, выступает в качестве блока знаний, а мы либо принимаем его, либо нет, данная идея может быть создана лишь совместными усилиями огромного количества мыслителей, наблюдателей, дополняясь, корректируясь и совершенствуясь и одними, и другими». Эти слова подтолкнули меня упорно продолжать свои изыскания.
Исследование, упомянутое выше, так и не увидело свет. Война, затянувшаяся на годы, отодвинула всю философскую мысль на задний план. Нам приходилось выживать в условиях, фундаментальные ценности которых значительно отличались от ценностей мирного времени и совершенно не были связаны между собой. Однако философская мысль никогда не угасала полностью. Иногда, под прикрытием временного затишья, она позволяла себе уместиться в нескольких абзацах. Именно так в 1915 году я сделал наброски двух исследований: одно – о «Фундаментальных характеристиках жизненного порыва» и второе – о «Памяти и забвении»; а в течение зимы 1916–1917 годов, будучи в достаточно комфортных условиях землянки в зоне перемирия в районе Эна, я попытался завершить тезисы по работе «Феноменология смерти». В конце концов, после службы в армии, я начал составлять подробный план достаточно серьезной работы, для которой выбрал название: «Как мы будем жить в будущем (а не то, что мы знаем об этом)». Целью создания данного исследования мог стать системный анализ феноменов, обращенных к будущему, взаимосвязь этих феноменов и их взаимодействие во всем многообразии в контексте проживаемого будущего. Занимаясь этим исследованием, я все более и более полно открывал для себя фундаментальную истину, понимал тесные связи, если не сказать идентичность, существующую между проживаемым будущим, с одной стороны, и идеалом, который при желании можно обозначить как этическое стремление к хорошему и лучшему, с другой стороны.
Однако все эти исследования находились в состоянии заготовок. Во время войны мы стремились к миру, надеялись заново начать жить с того момента, когда мир был нарушен. На самом же деле настал еще один период, наполненный трудностями, разочарованием, невезением, мучительными усилиями, а во многом – период опустошения, направленный только на адаптацию к новым условиям существования. Несмотря на благосклонное затишье, философской мысли было еще далеко до возрождения. Долгие бесплодные и мрачные годы предшествовали войне. Мои труды покоились глубоко в ящике письменного стола.
Безусловно, здесь не к месту обращать внимание на психологические проблемы военного и послевоенного времени. Прошу извинить меня даже за это небольшое отступление. Обращаясь к нему, я всего лишь хотел обозначить кое-какие факты моей личной жизни, которые, как мне кажется, помогут лучше понять общее направление и процесс создания этой работы.
Война коренным образом изменила всю мою жизнь.
Изучать медицину я закончил в 1909 году, но впоследствии, увлекшись философскими проблемами, все больше и больше отдалялся от медицины; был момент, когда я хотел забросить ее полностью. Однако в годы войны пришлось снова заняться медициной, в частности – психиатрией. После войны меня поглотила профессиональная деятельность, экзамены и, конечно, рутина, что, в совокупности, абсолютно не оставляло мне свободного времени и, как результат, душевного покоя. В таких условиях, разумеется, и речи не шло о том, чтобы немного пофилософствовать philosophari. Мои исследования были обращены к проблемам клинической психиатрии и психопатологии, а проекты работ о времени по-прежнему покоились в письменном столе. Но рассуждения на эту тему, редкие в силу затянувшегося молчания, не исчезли полностью: они будоражили меня как призраки прошлого, словно требуя вернуть им право существовать в мире света; именно поэтому понятия, которые изучаются в психопатологии и которые я пытался определить как понятия соединения жизни и реальности, искажались, становясь похожими на концепцию Бергсона; и все же, изменения, происходившие с понятием времени при различных формах психоза, неизменно притягивали мое внимание. Я позволял таким идеям проникать в мои труды по психопатологии, но, уверяю вас, поступал так с некоторыми сомнениями. Собранные ранее сведения о понятии времени никогда прежде не публиковались, попытка наложить их на сведения по психопатологии в любом случае была фрагментарной, не хватало базовой информации, полноты, а иногда и понимания. Может быть, в тот момент я рассчитывал отбросить проблему времени, опустив ее с «высот» философской мысли к «низам», где случаи доступны для наблюдения, в частности случаи различных патологий.
Сегодня я смотрю на это по-иному и прекрасно осознаю, что такой значимый переворот мне пришлось пережить волею судеб. Психиатрия приближена к жизни; она способна вносить поправки не в саму философскую мысль, но непосредственно в философию, которая ею руководит; теперь, перечитывая свои довоенные записи, я на самом деле считаю, что мне удалось избежать опасности сделать абстрактные, не связанные с жизнью умозаключения. С другой стороны, сам по себе факт, не исключающий возможность наложения общих знаний о времени на факты психопатологии, не только не принижает значимость последних, а, наоборот, обогащает их, вдыхает в них новую жизнь. Сейчас я более чем убежден: любые проявления психопатии могут быть поняты и глубже изучены под углом феномена времени, а также непрерывного сопоставления нормы и патологии, рассмотренных именно с этой точки зрения, – вот основной, если не сказать единственный, путь, дающий возможность добиться значительного прогресса в исследовании данного феномена. Изучение патологии демонстрирует нам, что феномен времени и феномен пространства проявляются в больном сознании иначе, чем обычно мы их себе представляем; такое изучение подчеркивает характерные черты этих феноменов, которые, в силу незначительного различия между ними в обычной жизни, остаются незамеченными либо рассматриваются как совершенно естественные. Таким образом, патология стала для меня не только чем-то вроде крайнего средства, позволившего мне продвинуть, может, даже контрабандным путем, мою теорию, но превратилась в ценнейший источник, из которого, возможно, я и почерпнул лучшие свои знания. Сегодня я уже не смог бы работать иначе, чем меня заставила сама жизнь.
Вдобавок сказался на мне и еще один значимый виток в моей судьбе. Я много лет жил и учился в Германии, поэтому имел обыкновение писать на немецком языке. За годы войны я научился думать и писать по-французски. Чтобы написать целостное исследование, мне пришлось полностью перевести все мои предыдущие работы. «Перевести» в данном случае не совсем подходящее слово. Язык все-таки не является неизменяемым инструментом, это живой организм, если выразиться точнее – это «переносчик» того, что принято называть общими идеями и личными соображениями. При таком многообразии различных мнений в области мышления и способов его выражения, превращающихся, как кажется при первичном рассмотрении, в барьеры понимания, перед нами возникает вопрос, решить который возможно только путем четкого противопоставления определений: «глубокий» и «поверхностный». Однако иногда наша жизнь ставит пред собой задачу просветить нас по этому вопросу. И мы учимся осознавать, что так называемое «поверхностное» может иметь свой собственный глубинный смысл, тогда как, с другой стороны, глубина, слишком продвинутая вперед, рискует стать немного поверхностной. Как бы там ни было, но, когда это произошло со мной и все мои идеи и записи были разрушены, первоначально я столкнулся с такими трудностями, что мне хотелось, и даже не раз, забросить все. Тем не менее, я попытался преодолеть эти трудности и, на сегодняшний день, скорее склонен считать, что все, связанное с психопатологией, в период этого второго витка моей жизни было для меня скорее благом, чем препятствием.
Столь долгая эволюция имеет, безусловно, и некоторые отрицательные стороны. Мы привязываемся к идеям почти так же, как к людям, а иногда даже сильнее, и потом с сожалением следим за тем, как они исчезают. Но мы не в состоянии отказаться от них полностью, с того самого момента, когда они стали нам дороги, даже если они уже кажутся устаревшими, так как их появление – это один из этапов нашего личного развития; поэтому для них мы приберегаем местечко в своей работе, позволяем им проникнуть в ее содержание, несмотря на риск лишить текст ясности, наполнив лишними деталями, которых там быть не должно.
Именно по этой причине данное сочинение, в первоначальном его виде, имело не связанные между собой части, созданные в разное время в течение долгих двадцати лет. Некоторые я написал, вдохновившись проблемами философии и благодаря им, иные – изучая феномены психопатологии; одни уже были опубликованы и написаны в виде статей, другие просто лежали среди бесчисленного количества исписанных мною бумаг; видимо, поэтому с первого взгляда казалось, что эти несвязанные части представляют собой разнородную бесформенную массу.
Я нашел в себе силы объединить их в единое целое и обобщить; очень надеюсь, что мне это удалось, по крайней мере, частично.
Чтобы обозначить как-то усилия, потраченные на объединение всего этого массива, я решил использовать слово «хронология». Думаю, в данном случае оно на своем месте, хотя в обычной жизни используется в совершенно другом значении, в самом банальном из всех имеющихся. Поэтому я отказался от мысли дать такое название своей работе. Но хочется верить, что настанет день, когда мы сможем употреблять слово «хронология», понимая его глубокое первичное значение.
Часть I
Очерк о временном аспекте жизни
Глава I
Становление и основные составляющие понятия «время-свойство»
(Принцип развертывания)
1. Предварительное изучение
Когда в повседневной жизни заходит речь о времени, мы инстинктивно бросаем взгляд на часы либо смотрим на календарь, как если бы все, что имеет отношение ко времени, ограничивалось лишь определением для каждого события какой-то конкретной точки, выраженной в годах, месяцах, часах и отрезках, которые отделяют эти события друг от друга.
В клинической практике применяются точно такие же положения. В них говорится о дезориентации во времени, а чтобы доказать это, предлагают нам спрашивать больного о дате его рождения, о длительности его пребывания в больнице или о текущей дате. Точно таким же образом медицина судит о наличии брадипсихии (больные эпилепсией), принимая во внимание сниженную скорость их реакций по сравнению с реакцией нормального человека, скорость, которую можно было бы измерять в случае необходимости, используя часы, выражая значения в минутах и секундах. Вот еще раз мы сталкиваемся с той концепцией времени, что базируется на экспериментальных исследованиях возможностей оценивать, при различных условиях, измеряемые отрезки времени, а также отклонения от нормы, которые могут возникать в процессе таких измерений при наличии патологий.
В данном случае ни для кого не составит труда заметить, что здесь речь идет об измеряемом времени или, если выражаться языком Бергсона, времени, ассимилированном с пространством. Кстати, такие выражения, как «измерение», «расстояние», «интервал», применяемые и с термином «время», и с термином «пространство», являются достаточным тому доказательством. Вместе с тем, при наличии патологии дезориентация во времени существует одновременно с дезориентацией в пространстве, как если бы оба эти вида дезориентации не были проявлением одного и того же недуга; здесь мы видим, что они существуют бок о бок в случаях галлюцинаторных помешательств или помутнения сознания, когда окружающая реальность словно приостанавливается и замещается вымышленным миром, а также в случае умственной деградации, когда по причине расстройств памяти теряется способность воспроизводить в нужное время названия мест, конкретные даты, привязанные в нашем сознании к различным событиям повседневной жизни.
Однако давайте оставим этот аспект времени. Он представляет собой слишком ограниченную основу для того, чтобы провести глубокое исследование феномена времени. И понять это не так уж и сложно.
Монотонная жизнь в окопах иногда приводила к тому, что мы забывали дату и день недели; учитывая условия, в которых мы находились, будучи вырванными из традиционного целостного уклада жизни, эта информация, если разобраться, не представляла для нас в тот момент абсолютно никакого интереса; вдобавок, приспособившись к обстоятельствам, мы создали для себя другой «календарь», более соответствующий ситуации: мы просто подсчитывали дни, прошедшие с начала нашего пребывания на передней линии фронта, и дни, которые нас отделяли от возвращения в расположение войск, чтобы передохнуть. Мы были дезориентированы во времени, в общем смысле этого понятия, что иногда соответствовало действительности; но, вместе с тем, мы начинали громко возмущаться, стоило кому-то назвать нас «существами» вне времени, если можно так выразиться. И наоборот: вдали от усеянного смертями опустошения все наши страдания были связаны со временем; мы не выдерживали монотонных, мучительно долгих дней, сменяющих друг друга, и боролись со скукой (феномен, легко постижимый, стоит только осознать, что по природе своей он тесно связан с понятием времени), которая, подобно смертоносной, липкой массе проникала внутрь нас, угрожая превратить в ничтожества. Разве никто никогда не говорил, что во время войны мы сражались не только с врагом, но и со скукой?

