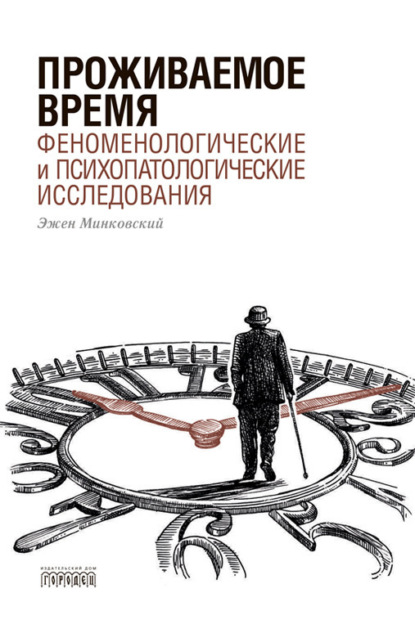
Полная версия:
Проживаемое время. Феноменологические и психопатологические исследования
Следующий пример я позволю себе позаимствовать из детской психологии. Когда моему сыну было шесть лет, я провожал его до школы; мы вместе завтракали, после чего я выкуривал сигарету, а затем мы отправлялись в школу. Однажды утром, проснувшись позже обычного, я обратился к сыну, спокойно допивающему молоко: «Поспеши, малыш, иначе мы опоздаем». Ответ не заставил себя долго ждать: «Но, папочка, мы не можем опоздать, ты же еще не выкурил свою сигарету». В представлении ребенка отложилась определенная последовательность действий; безусловно, здесь он применил свое понятие порядка действий во времени, и хотя осознавал, что время абстрактно и протекает независимо от происходящих в нем событий, с которыми оно соотносится, но все-таки ошибся.
При изучении патологий мы сталкиваемся с подобными фактами. Больной общим прогрессирующим параличом, если стадия заболевания еще не слишком тяжелая, демонстрирует способность рассказывать в правильном хронологическом порядке, чем он занимался во время войны, но в то же время не способен сообщить нам, ни когда началась война, ни когда было подписано перемирие. Что касается больных старческим слабоумием, каким бы парадоксальным это не казалось, можно отметить, что, несмотря на огромные проблемы с памятью и полнейшую дезориентацию, их мышление в рамках псевдологии и всех прочих психических проявлений всего лишь распространяется во времени; достаточно часто, в каждой фразе, которую они говорят, можно обнаружить представление о временном порядке. Хочу привести один из множества имеющихся примеров: больная в возрасте 78 лет, с признаками серьезной умственной деградации, уже не знает, ни сколько ей лет, ни когда она родилась, ни какой сегодня день, ни то, как долго она находится в больнице; но заметьте, что она говорит: «Моя мать (Ее мать давно умерла.) приходила каждый день, а сегодня не пришла; она приходила каждый день, по-моему, она не приходила вчера; но она всегда приходила ухаживать за мной. До сегодняшнего дня сыновья приходили сюда постоянно, а сейчас я больше не встречаюсь со своими внуками, как раньше. Когда я думаю о них, мне кажется, что прошел целый век, с тех пор как я их видела. Если бы я могла их видеть два или три раза в неделю, то знала бы, что мы виделись недавно и вскоре я их снова увижу». Итак, чтобы немного сменить круг идей, давайте вспомним о страдающем шизофренией пациенте господина Жильбера Робена, который выстрелил из револьвера в свои наручные часы и, как минимум символически, убил таким образом время, так как считал его своим злейшим врагом.
Впрочем, не будем пока задерживаться на этих примерах, поговорим о них позже. Здесь нужно было привести их исключительно для того, чтобы доказать, что ни мысль о возможности измерять время для нормальных людей, ни понятие дезориентации во времени при наличии патологий не в состоянии изложить феномен проживаемого времени; они представляют собой лишь малую часть, всего лишь один из абстрактных аспектов, а значит, находятся очень далеко от существующей реальности и потому не могут использоваться в качестве отправной точки при полном анализе времени. Между тем, мы не занимаемся поиском этой самой отправной точки ни среди психопатологических сведений, ни в детской психологии, ни среди различных особых обстоятельств обычной жизни; все эти факты включают в себя, по сути, один из элементов отклонения от нормы или неполноценности, поэтому в данном исследовании им сразу же отводится роль вспомогательных факторов. А нам в первую очередь необходимо представить к рассмотрению феномен времени во всем его многообразии, во всей его оригинальности и со всеми специфическими особенностями.
С этой точки зрения, необходимо сделать еще одно примечание. Время, ассимилированное с пространством, как все мы с вами знаем, грешит чрезмерной статичностью. Однако необходимо, тем не менее, остерегаться, если не более того, изображений времени, которые, как мне кажется, наоборот, грешат излишним динамизмом – совершенно искусственным, как мы его представляем себе. Слишком часто феномен времени предстает в нашем восприятии в виде какого-то калейдоскопа, переливающегося у нас перед глазами разными красками каждый миг, без остановки, снова и снова, а картинки, возникающие так, иногда связаны с событиями внешнего мира, иногда с эпизодами нашей личной жизни. Таким образом, в нашу жизнь примешиваются идеи о замещении, о круговороте и безумной гонке, о бесконечной очередности, которые не привносят в нашу потребность размышлять и медитировать ни одной отправной точки с хотя бы незначительной надежностью. Я вспоминаю, какое впечатление произвело на меня описание времени в книге Циена: «Нам никогда не понять ποΰ οτω[2]. Мы захвачены своими представлениями и своими ощущениями. Мы не можем ни остановить их, ни выпрыгнуть из везущей нас вперед колесницы, чтобы остаться всего лишь зрителями. Каждая мысль, связанная с нашими представлениями, сама по себе уже является новым представлением. Как только нам кажется, что удалось уловить миг А, мы тут же становимся жертвой мига В». При таком описании почти сразу возникает желание воскликнуть: «Но это неправильно, ποΰ οτω существует, мы все знаем об этом в каждый миг своего существования, у нас есть возможность стать зрителем, порой нас даже призывают стать им, в чем и заключается одна из основных задач нашей жизни; а если возникают разногласия, то уж конечно они не связаны с немедленными данными сознания, которые во всем виноваты, а зависят от неправильной оценки описаний».
В одном из моих первых исследований я обсуждал данный вопрос более объективно:[3]
«Эта схема является результатом комплексной проекции психической реалии в конкретное время, как его понимают в контексте физики. Одного взгляда на нашу психическую жизнь достаточно, чтобы показать, что вышеупомянутая схема совершенно не соответствует действительности. Во-первых, мы не воспринимаем время только как непрерывную последовательность различных элементов нашего сознания, на чем настаивает Циен; нам также известен фактор длительности его элементов; с другой стороны, феномены, связанные с памятью, подразумевают отношения прошлое-настоящее, которые никоим образом не могут базироваться на простой последовательности фактов.
Однако здесь совсем не сказано априори, что в психической реальности отсутствуют феномены, подчиненные реальности последовательности во времени, в силу чего способные сами выступить в качестве отправной точки при изучении этой реальности. Иначе говоря, прежде, чем применить схему, упомянутую выше, нужно доказать правомерность полного проецирования психической реальности на конкретное время. В противном случае эта схема станет отображением всеобщей тенденции приравнять любой ценой психическую реальность и материальное становление».
Сегодня я, скорее всего, выразил бы свои идеи немного иначе, но суть моей мысли остается прежней. Такая разновидность калейдоскопа, о которой говорилось ранее, на самом деле – всего лишь способ приспособления к пространству и чрезмерная рационализация времени. Оно здесь разложено на рядом стоящие пункты; после их ментального выстраивания друг за другом с достаточно высокой скоростью они представляются нам пунктами с разными состояниями сознания, которые предположительно должны там быть, и являют собой точную картину течения жизни во времени. Однако на самом деле проживаемое время совершенно не соответствует этой схеме. Синоним понятия «динамизм» кажется, тем не менее, почти совпадающим с феноменами длительности и стабильности (противоположными, по сути своей, понятиям неподвижности и смерти); кроме того, существуют феномены, которые, если бы они протекали во времени, содержат, помимо всего прочего, понятие времени внутри них самих и выступают сами по себе в качестве, так сказать, «временных знаков»; позволю себе для примера перечислить лишь некоторые из них, такие как воспоминания, обращенные в прошлое, а также желание и надежда, устремленные в будущее и способные создавать, даже заново создавать его для нас. Очевидно, что эти феномены ОСОБО заслуживают нашего внимания, и обращаться к ним мы будем по ходу всей этой работы; но уже сейчас становится ясно, что нам недостаточно изучить их только как нечто протекающее во времени, потому что по их содержанию или, более точно выражаясь, по их особенной структуре, они сами собой определяют общую связь проживаемого времени, а значит, именно того времени, которое мы хотим изучить.
На данном этапе вряд ли необходимо говорить, что проблема, затронутая здесь, не имеет ничего общего с проблемами, изучаемыми в физике, основанными на современных теориях относительности. Фолькельт ранее уже настаивал на необходимости обратить внимание на этот нюанс[4].
В физике за отправную точку был принят пространственный аспект времени, в этом направлении он продвигается только от абстракции к абстракции. Что же касается нашей идеи, она продвигается в принципиально противоположном направлении; пресытившись этими абстракциями, она пытается обернуться «назад», к проживаемому времени, учитывая все его особенности[5].
2. Становление
Что же такое время?
Выражаясь словами Бергсона, это «жидкая масса», волнующийся, грандиозный, чарующий, могущественный океан, который простирается вокруг меня, во мне, повсюду, а когда я размышляю о времени, заключен в одном слове: становление.
Я его обозначаю лишь приблизительно и конечно же не совсем точно; я это осознаю, когда говорю, что время течет, что оно идет, что оно пролетает безвозвратно, но также движется вперед, развивается, уходит в неизвестное и расплывчатое будущее.
Я признаю, что выражаю свои мысли несовершенно. Это чистая правда. Такое несовершенство, между тем, связано вовсе не с недостаточным количеством средств выражения, а с осознанием того, что становление не нуждается в необходимости быть выраженным. Это значит, что во всем своем чарующем могуществе оно не дает нам ни единой волны, от которой мы могли бы оттолкнуться, чтобы в общих чертах обозначить взгляд или суждение на этот счет. Своими волнами оно укрывает все, что мы хотели бы у него узнать; у него нет ни предмета, ни объекта, ни отдельных частей, ни направления, ни начала, ни конца. Оно не является ни обратимым, ни необратимым. Оно универсальное и безличное. Оно может быть хаотичным. И при этом оно рядом с нами, так близко, что само по себе является основой нашей жизни. Еще немного, и мы могли бы сказать, что оно и есть синоним жизни в самом широком смысле этого слова.
Обычно мы определяем время как абстрактное понятие, которое по природе своей сводится к конкретным изменениям, наблюдающимся либо в нашем сознании, либо во внешнем мире. В сущности, это совсем не так. Время предстает перед нами как простейший феномен, живой, всегда присутствующий здесь, рядом с нами, намного ближе, чем все конкретные изменения, которые нам удается разглядеть во времени. Оно совершенно не позволяет себя исчерпать последовательностью наших чувств, наших мыслей, наших проявлений воли.
Я бы даже сказал, что оно ощущается во всей своей чистоте, когда нет ни единой мысли, ни единого чувства, четко обозначенного в сознании; тогда время заполняет его полностью, стирает границу между мной и не мной, оно охватывает как мое собственное становление, так и становление вселенной или совсем короткое становление; оно заставляет их сливаться воедино и перепутываться между собой; кажется, что мое собственное «я» растворяется в нем полностью, при этом я не испытываю мучительного чувства ожидания, примешанного в мою целостную личность. Наоборот, это единственная возможность отказаться от своего «я», в сущности, не совершая акта отказа. Мы смешиваемся с могучими потоками, безликими, лишенными «гражданского состояния», без будущего, без проблем, без малейшего противостояния, испытывая чувство удовлетворенности и душевного покоя, если допустимо так сказать.
А попроси нас противопоставить становление нескольким конкретным феноменам, вряд ли бы в первую очередь мы подумали о последовательности чувств и представлений или о неслаженных телодвижениях, а значит, об изменениях во времени, со временем или относительно времени, точно так же, как и о развитии творческой личности, с одной стороны, и о проматывании времени, о старости и смерти – с другой.
Феномен становления основывается на идее πάντα ρεί[6], которая, не переставая, проходит через философские взгляды со времен античности и до наших дней. Однако следует остерегаться мнения, что в этой формуле πάντα выступает как сумма изолированных частиц, каковы бы они ни были, ибо в таком случае эта формула будет преобразована в так называемый калейдоскоп, уже упомянутый ранее. На самом деле πάντα – простая составляющая, которая ни при каких условиях не может раскладываться на «всё», состоящее из ρεί и ни из чего другого более. С этой точки зрения, скорее всего, правильнее будет сказать, ροή ρεί[7], чтобы подчеркнуть, что простое становление не допускает никакого конкретного нижнего слоя. Кроме того, нельзя упускать из виду и то, что эта формула включает, как того требует дискурсивное мышление, подлежащее и глагол, тогда как становление и не содержит такого разделения, и не нуждается в этом: в нем все перемешано и ничто не может быть из него удалено.
Нам не остается ничего иного, кроме как обратить внимание на то, что становление имеет иррациональный характер. Даже самые простые процессы дискурсивной мысли, кажется, противоречат его природе.
Мы также можем выразить становление, сказав, что нам не удастся получить по отношению к нему достаточное расстояние, чтобы сделать его предметом наших знаний. Оно для этого слишком близко к нам. Желание познать его, проанализировать, представить его ничему не соответствует, так как каждое мгновение мы можем его проживать, ощущать – оно прямо перед нами.
Таким образом, нам удалось избежать упрека в анализе становления только с негативной стороны, выставив на обозрение его иррациональный характер. Этот упрек, по сути своей, и является выражением главенства дискурсивного мышления, принятого без всякой критики. Здесь вовсе не идет речь о действительной недостаточности и полной относительности нашей мысли в отношении феномена времени. То, что предстает пред нашим взором, является чем-то позитивным, в том смысле, который мы здесь определяем как основное несоответствие между феноменом становления и методами дискурсивного мышления. Становление отстраняет от себя, в силу своей природы, любое суждение, любой признак, любое подлежащее, любое сказуемое. Приспособленное к человеку, дискурсивное мышление оказывается неспособным обратиться к становлению. Становление недосягаемо для знания, и не потому, что находится позади известного, но потому, что является, если можно так выразиться, данностью, и нет ни одного вопроса по сути его природы, который бы относился к области дискурсивного мышления.
Здесь мы обнаружили подтверждение того, что было сказано на счет иррационального характера становления, к чему приходит логика, с удивительной легкостью демонстрируя нам, что время само по себе противоречиво. Вот, например, одна из схем: «прошлое» уже прошло, его больше нет; а «будущего» еще нет; и «настоящее», таким образом, находится среди двух «ничто»; но «настоящее» – это данный момент, «сейчас» – точка, в которой отсутствует протяженность; с того мига, как «настоящее» появилось, его уже снова нет; а значит, «сейчас» тоже противоречиво, тоже является «ничем». Так реальность «сейчас» сокращается до момента и до «ничто», будучи расположенной также между двух «ничто»[8].
Эти рассуждения, между тем, совершенно не доказывают, что время на самом деле является «ничем». Для этого следовало бы признать, что аргументы, которые здесь приведены, имеют не просто абсолютное, а исключительное значение. Но об этом не может быть и речи. Сущность времени слишком богатая, оно слишком «живое», чтобы мы могли привязать время к формуле, сводящей его до «ничто». Аргументация, приведенная выше, насколько бы надежной она ни казалась, служит только для того, чтобы продемонстрировать, что время становится «ничем», если мы будем рассматривать его только с точки зрения логики; она говорит лишь то, что время иррационально, что оно способно просто сократиться до «ничто», если мы будем применять к нему принципы дискурсивного мышления, поэтому впоследствии к нему не должна, ни при каких обстоятельствах, применяться данная точка зрения.
По ходу дела отметим, что паралогизмы такого вида встречаются не так уж и редко. Именно так, отталкиваясь от принципа детерминизма в области материального реализма, мы показываем со всей необходимой строгостью, что факты психологии могут быть только вторичным явлением. На самом деле одного беглого взгляда на эти факты достаточно, чтобы доказать, что они ничего собой не представляют. Конечно, они превращаются во вторичные явления, если мы их рассматриваем, используя способ, который только что был указан. Но, по сути, ничто не может нас заставить анализировать их таким образом, и любое умозаключение, приводящее к подобным выводам, доказывает лишь одно: физическая реальность, если ее рассуждения изменяются до уровня воли, противоречит предпосылкам, на которых она основывается[9].
Аналогичным образом, сокращение времени до «ничто» демонстрирует всего-навсего его несоответствие постулатам, на основании которых это сокращение и было выполнено, а также необходимость применения для его изучения более свойственных его природе методик.
Но в таком случае, с чего же начинать изучение времени?
3. Переход от проживаемого времени к времени, ассимилированному с пространством; его последствия методологического порядка
И вот наступает переломный момент. Будучи приверженцами философии Бергсона, мы смогли выявить иррациональный характер становления. Но как быть с возникшим основным противоречием между проживаемым временем и дискурсивным мышлением?
Только одно решение приходит на ум. Время, если это не связано с его анализом, обладая своим особенным аспектом, требует особенной методики изучения, свойственной его природе, – как минимум для того, чтобы выделить его лучшие характеристики. Бергсон в данном случае рекомендовал интуитивный метод. Впрочем, здесь неуместно упоминать всю значимость его трудов. Похоже, сейчас перед нами возникают два пути. Мы можем, как поступал и сам Бергсон в работе «Творческая эволюция» («L'Évolution créatrice»), предоставить времени более прочное и устойчивое основание, рассматривая его в качестве биологических феноменов, и таким образом прийти к понятному мнению о взаимосвязи всех событий в природе. Но точно так же мы можем попытаться основываться на знаниях о свободных феноменах. В таком случае, не придется ли нам искать выход в тупике, в который, как мне кажется, мы сами себя загнали ранее, упорно противопоставляя дискурсивное мышление и интуицию, пространство и время?
Давайте вернемся назад. Мы отвергли идею калейдоскопа. Однако эта идея могла бы возникнуть в сознании того, кто ее выдвинул. Безусловно, здесь не идет речь об истинном времени, но, тем не менее, здесь может быть один из аспектов времени. Будет ли считаться, что я признаю свою ошибку, если за точку отсчета решу принять идею о последовательности событий, и мне удастся, для себя лично, воссоздать вышеупомянутую идею о калейдоскопе? Да, порой я не просто представляю себе этот калейдоскоп, но и испытываю его самыми необычными способами. Когда ко мне подкрадываются усталость, отчаяние, разочарование, все мне начинает казаться мимолетным, эфемерным, расплывчатым. Жизнь, даже моя собственная жизнь, все, что происходит вокруг меня, как будто исчезает со временем, так что мне не удается там даже задержаться, а размытое ощущение «ну и что теперь?» охватывает все мое существо. Это происходит нечасто и достаточно быстро проходит, но все-таки так бывает, а значит, также передает особенный аспект времени. И, если бы эти моменты, как, кстати, и более рациональное представление о калейдоскопе, не служили нам только в качестве методов сравнения, чтобы выявить строение времени во всем его первичном объеме, они не могли бы оказывать такого воздействия, не имея никакой связи с ним.
Именно по этой причине в каждом учении, пытающемся проникнуть в глубочайшую природу времени, как мы видим, возникает еще и скрытый план, своеобразный, безмолвный, но неотъемлемый элемент, идея о пространстве. В качестве основного элемента понятия времени Фолькельт рассматривает понятие «сейчас-непрерывность» (Jetzt-Stetigkeitsbewusstein), совершенно не оставляя нам возможности описывать то, какой была наша жизнь, если этот элемент не существовал ранее; таким образом, он представляет нашу жизнь, как что-то подобное мозаике, что-то непостоянное и прерывистое (zerrisen). С одной стороны, хотелось бы его спросить, что было бы со временем, лишенным его основного элемента, ибо он никогда не пытался рассмотреть время без оного, и на каком основании, рассуждая о времени, он вводит понятия, явно позаимствованные у пространства, например, непостоянство и прерывистость; но, с другой стороны, нельзя не рассмотреть его умозаключение как правдоподобное, по крайней мере, на основании некоторых критериев.
Становление и бытие, время и пространство, видимо, значительно сильнее связаны друг с другом и намного лучше сочетаются между собой по сравнению с тем, что мы предполагали изначально. На ум приходит мысль о пласте пространственно-временной целостности, который можно сравнить с органо-психической целостностью.
Физика, какой нам ее представил Бергсон, раскладывает движение на составляющие и передает его через места, которые последовательно занимает в различные отрезки времени движущееся тело. Таким образом, он вводит противопоставление отдельных точек (T, T + t1, T + t2 и т. д.) там, где, как мне кажется, есть только проникновение и организация, а это противопоставление искажает время, ассимилируя его с пространством. И вот здесь возникает один очень значимый вопрос: что позволяет ему использовать подобную ассимиляцию, причем совершенно естественным образом, без того чтобы проявить хоть какую-то минимальную гениальность на этот счет? Если бы время абсолютно отличалось от пространства, то никогда ни сама физика, ни один из ученых-физиков не достигли бы подобных результатов, такая мысль просто не посетила бы их. Кстати, давайте обратимся к нашему собственному опыту, к жизненному опыту, а также и к здравому смыслу: мы обнаружили, что, как только пытаемся представить себе время, в нашем сознании происходят мыслительные процессы, которые не только не лишены смысла, но которые мы можем довести до конца без возникновения каких-либо сложностей, этот процесс происходит естественным путем, практически инстинктивно, точно так же, как и в физике, в виде прямой линии.
«Без сомнения, – пишет Блондель, – чувства, которые мы переживали в течение длительного промежутка времени, необходимы для понимания того, что же на самом деле такое месяцы и годы, а объективные методы, принятые обществом для измерения времени, были бы непонятны без особого жизненного опыта, помогающего осознать, каким образом время движется и как оно заполняется реальностью. Но факт остается фактом: обычный человек, задумавшись о длительности времени, скорее представит его в виде одного длинного пути, чем в виде событий в календаре, разделенных на четко определенные участки»[10].
Тесные связи между идеей о времени, ассимилированном с пространством, и о переживаемом времени проявляют себя так же, как и естественный переход от одного к другому, без каких-либо конфликтов или уловок. Если сказать, что речь здесь идет о результатах, полученных после серьезных усилий, это приведет к тому, как мне кажется, что проблему отложат на потом. Не будем учитывать, что в данном случае мы заменяем феноменологию изучения времени толкованием на генетическом уровне и таким образом совершаем что-то наподобие логической ошибки. Концепции генезиса, прогресса и эволюции являются, по сути, частью изучаемого феномена и могут отделиться от него, только развиваясь. Принятое решение или вариант, к которым мы обращаемся, в обязательном порядке предполагают, что вышеупомянутый переход должен иметь возможность реализоваться, пусть даже это будет всего лишь набросок, позволяющий выявить условия, необходимые для реализации. Законным кажется рассмотрение данного перехода не в качестве результата действия интеллектуального характера, а в качестве «ближайших сведений» сознания, в силу чего мы и позволяем ему самостоятельно оценить свои права.
Эти права заключаются в следующем: с одной стороны, время выступает как иррациональный феномен, устойчивый к любой концептуальной формулировке; но, с другой стороны, как только мы пытаемся его себе представить, он самым естественным образом предстает в виде прямой линии; следовательно, нужно, чтобы существовали феномены, способные разместиться и выстроиться по порядку между двумя этими крайними аспектами времени, оставив возможность перехода из одного аспекта в другой.



