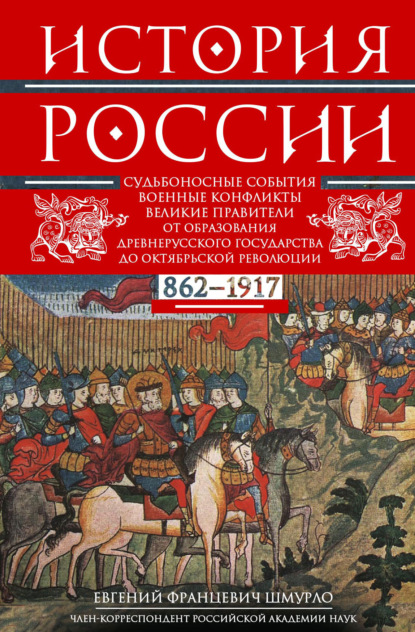
Полная версия:
История России. Судьбоносные события, военные конфликты, великие правители от образования Древнерусского государства до Октябрьской революции. 862–1917 годы
Судьба отнеслась к Святославу значительно суровее, чем к Александру и Цезарю, да и сам он, конечно, ни по личным средствам, ни по тем, что находились в его распоряжении, не стоял на уровне с названными великими деятелями древности; но видеть в нем простого искателя приключений, бесшабашного рубаку и берсеркера по норманнскому образцу значило бы несправедливо отнимать у него место в ряду тех, кто вложил свою долю участия в трудном деле домостроительства Русской земли.
3. Киев, а не Новгород, центр деятельности первых русских князейИз сказанного выше должно быть ясно, почему центр деятельности первых русских князей из Новгорода вскоре перенесен был на юг, в Киев. Киев не только лежал на торговой столбовой дороге, но почти в центре Греческого водного пути, значительно ближе к главному Византийскому рынку, и к тому же близ устьев Десны и Припяти – двух рек, которые, в свою очередь, открывали удобные пути внутри страны. Киев всего дальше был выдвинут к западу, в сторону Польши и Венгрии, что облегчало ему сношения с этими землями. Будучи расположен на границе лесной и степной полосы, он являлся удобным складочным местом для продуктов севера (лес, меха, медь, воск) и юга (скот, зерно). Все это делало Киев узлом торговых сношений. Кроме того, близость степи, откуда следовало постоянно ожидать нападений, делала Киев важным военным пунктом: из далекого Новгорода труднее было бы защитить Русскую землю от кочевников.
Таким образом, «кто владел Киевом, тот держал в своих руках ключ от главных ворот русской торговли» (Ключевский); но к этому следует добавить: Киев, будучи главным военным оплотом против неспокойного степного юга, тому, в чьих руках находился он, предоставлял наилучшие средства для обороны страны.
V. Принятие христианства
Крещение Руси явилось актом политической мудрости со стороны Святого Владимира. Человек большого ума, русский князь понял, что язычество стоит и станет, может быть, навсегда серьезной помехой к общению с культурной Европой, отгородит от нее молодую страну высоким забором. Оставаться в язычестве значило обречь себя на изолированную жизнь, отказаться навсегда от возможности войти в семью европейских народов. Так как культурная Европа олицетворялась в ту пору для России в Греческой империи, именно отсюда он эту религию и позаимствовал. Католические миссионеры, добивавшиеся, чтобы русский князь принял христианство из рук римского первосвященника, не имели успеха по той же самой причине, по какой не нашла себе благоприятной почвы и пропаганда мусульманская и еврейская: папа ввел бы Владимира и его страну в круг Западной Европы, с которой у него в ту пору не было почти никакого соприкосновения. Короче говоря, Владимиру римская вера в данную минуту была бесполезна, и, практический государственный ум, Владимир взял новую веру оттуда, где это оказывалось всего выгоднее.
VI. Влияние христианства на русскую жизнь
1. Возникает новый общественный класс – духовенствоЭто особый мир: у него своя иерархия, свои правила и законы, свой круг лиц и учреждений, которые он ведает, судит или защищает. Вообще рядом со светским обществом возникает новое, церковное.
Положение церкви определялось церковными уставами Владимира Святославича и Ярослава Мудрого, выработанными в духе Номоканона, византийского свода церковных правил и законов о церкви, изданных светской властью (русский перевод его известен под именем Кормчей книги).
Ведению (управлению) церкви подлежали:
все духовенство, белое и черное, а также церковнослужители;
так называемые церковные или богаделенные люди (странники, нищие, калеки; рабы, отпущенные на волю на помин души или по какому иному поводу);
изгои (церковный устав новгородского князя Всеволода, 1135 г.: «Изгои трои: попов сын грамоте не умеет, холоп из холопства выкупится, купец одолжает; а се и четвертое изгойство и к себе приложим: аще князь осиротеет»).
Суду церкви подлежали:
вся вышеперечисленная категория лиц, подлежавших ведению церкви;
миряне, обвиняемые в еретичестве или колдовстве – деяниях, противных христианскому вероучению; или оскорбившие отца, мать, жену – нарушившие чистоту семейных отношений, охрану которых взяла на себя церковь;
некоторые из преступлений уголовного характера: воровство, разбой; последняя категория преступлений ведалась судом смешанным, из лиц духовных и светских.
2. Складывается новый взгляд на общественные отношенияЯзыческое общество опиралось на грубую силу, руководилось личным интересом и ветхозаветным правилом «око за око, зуб за зуб»; месть за обиду возведена была на степень нравственного долга: княгиня Ольга заслужила бы общее презрение и навек бы себя обесчестила, не отомсти она древлянам за смерть своего мужа. Раб считался вещью; в основе семейной жизни лежал один грубый эгоизм (умыкание жен).
Христианство, наоборот, проповедует забвение обид, заботу о слабом и беспомощном. Всех «униженных и оскорбленных» Русская церковь взяла под свою защиту: люди, выброшенные из общества, потерявшие связь с ним (изгои), больные, бессильные находили себе у нее покровительство. От церкви человек впервые узнал о существовании «ближнего»; раб перестал быть вещью – он такой же человек, как и все другие, такое же создание «по образу и подобию Божию». Церковь облагородила семейную жизнь, положив в основу ее духовное единение и сознание взаимного долга, искореняя обычай умыкания и многоженства. Вообще христианство внесло в общественную жизнь новые идеалы, изменило сами понятия о морали, представления о праве и долге и грубую силу подчинило требованиям нравственного закона.
3. Наряду с миром земных интересов родился мир интересов духовных (монастыри)Язычество знало одни лишь земные интересы: личное счастье, славу и власть, торжество над врагом, материальное довольство, богатство. Христианство, наоборот, презрев блага земные, проводит в жизнь новый идеал: блага царства небесного. Этих благ можно достигнуть, лишь уйдя из мира и посвятив себя Богу, служа Его заветам. Нравственное самосовершенствование, бескорыстие, довольство малым, постоянное пребывание в труде, самоотверженная забота о ближнем – вот на чем должна быть построена наша жизнь. Так возникли монастыри, а с ними особый класс людей – монашество.
Следует различать два типа монашества: пустынножительство и общежитие. Пустынники самым реальным образом разрывали с миром и, не заботясь о нем, думали лишь о спасении собственной души. Монастыри же общежительные «мир» понимали как «суету земную» и, отрекаясь от последней, от самого мира не отвертывались, посвящали свои силы на служение ему, стараясь перевоспитать его в духе заветов Христа. Вот почему монастыри этого типа явились кафедрой христианского учения, воспитательной школой, рассадником просвещения, благотворительным учреждением. Такая роль создала им чрезвычайно высокое и авторитетное положение в древнерусском обществе. Начало было положено Киево-Печерским монастырем. Родоначальник позднейших русских монастырей, он дал своих проповедников и мучеников на далеком Севере, еще не тронутом светом христианства; став средоточием умственной жизни, он вырос в своего рода палладиум русского православия. Здесь было положено начало книжному просвещению: здесь появились первые церковные писатели и первая история России. Печерский монастырь стал нравственной силой, и к голосу его иноков прислушивались сами князья, не всегда решаясь идти наперекор им.
4. Привносится идея единодержавной и самодержавной власти государяВосточная церковь выросла из тесного союза со светской властью под впечатлением великих услуг, оказанных ей греческими императорами. Действительно, Константин Великий и его преемники помогли христианской церкви стать на ноги, восторжествовать над язычеством, оказывали ей могущественную поддержку в борьбе с многочисленными ересями, обеспечили материальное ее положение; принимая живое участие в ее делах, они созывали церковные соборы, своим авторитетом давали силу их решениям. Все это воспитало византийское духовенство в чувстве известной зависимости и подчиненности. В их глазах император стал единым законным источником жизни на земле. Он – ставленник Бога, Его помазанник, верховный покровитель вселенской церкви, и за свои действия отвечает лишь перед Богом, вручившим ему власть на земле. Противодействовать воле императора – значит идти против воли Божьей, совершить тяжкий грех. Сам патриарх совершил бы преступление, если бы допустил себя до подобного шага.
Высокое представление о носителе светской власти перенесено было греческим духовенством и в Древнюю Русь. Русский князь, конечно, не император, но он именно носитель государственной власти, и этого достаточно, чтобы церковь постоянно проводила в сознание русского общества идею безусловного повиновения своим государям. Уже Владимира Святого епископы величают царем и самодержцем, говоря ему: «Ты поставлен от Бога»; Лука Жидята так поучает народ: «Бога бойтеся, князя чтите: мы рабы, во-первых, Бога, а потом государя»; та же мысль и в поучении митр. Никифора Владимиру Мономаху: «Князья избраны от Бога; Он царствует на небесах, а князю определено царствовать на земле». Правда, привился этот взгляд не скоро и не сразу; видимые результаты его скажутся лишь в московский период; но, подобно тому как капля точит камень (gutta lapidem cavat), так и эта идея со временем даст свои плоды и окажет сильное влияние на рост государственной власти в России.
5. Отношение к азиатскому ВостокуПринятие христианства положило резкую грань между новообращенной Русью и азиатским миром – языческим, позднее мусульманским. Этот мир с самого начала и во все продолжение русской истории был соседом Русской земли; всегда враждебный, он являлся постоянной угрозой ее существованию, а после татарского нашествия стал даже властелином на целые века. Став христианами и признавая в себе людей, обладающих единой истинной верой, русские люди уже с тех пор почувствовали свое превосходство над этим восточноазиатским миром поганых людей. «Это чувство превосходства, соединившееся с известным отвращением, не исчезало даже во время векового ига, держало побежденных вдалеке от победителей и в конце концов в сильной мере было залогом самого освобождения» (Пыпин).
6. Отношение к Римской церквиЕсли новая религия отгородила русских от мира азиатского, нехристианского, то тоже неодолимую стену воздвигла она и между православной Россией и католическим Западом. Хотя в пору Владимира Святославича христианская церковь формально еще не раскололась на Восточную и Западную (это совершилось в 1054 г.), но путь к расколу уже обозначился: обе церкви к этому времени сложились как два особых и враждебных один другому мира; римский первосвященник уже поставил вопрос о примате и в сфере церковной, и в сфере мирской жизни, что неизбежно вырывало глубокую пропасть между Римом и Константинополем.
Восточная церковь окрепла под покровительством светской власти и привыкла видеть в ней выражение божественной воли; авторитет же римских пап вырос независимо от нее. Постепенно папы привыкли держать себя самостоятельно, а в тех случаях, когда находили действия и предписания византийских государей несправедливыми (например, в деле иконоборства), прямо отказывали им в повиновении. Приняв из рук Пипина Короткого Равенский экзархат, по праву принадлежавший восточным императорам, они и не думали возвращать его им. Если власть папы, «наместника Христа», «выше всякой другой власти», то эти «другие власти» должны подчиняться ей – вот положение, глубоко вкоренившееся в Римской церкви. На этой почве должно было неизбежно произойти столкновение двух властей, мирской и духовной. Еще со времени коронования Карла Великого (800) Римская церковь стала проводить мысль, что «римский император и папа суть два меча, посланные Богом на землю для защиты и торжества христианства: меч духовный вручен папе, меч светский – императору». Отсюда оставался лишь один шаг (его и сделает Иннокентий III в XIII столетии), чтобы заявить: «Так как задача, возложенная на эти мечи, чисто духовного характера, то от папы, а не от императора зависит, какое направление дать им. Меч духовный выше меча светского».
Другая черта, резко отделявшая Восточную церковь от Западной, – рознь религиозная. Западный догмат filioque на Востоке не признавался; к причастию под обоими видами здесь допускали не одно духовенство, но и мирян.
Многие обряды церковные тоже сложились различно: запричастный хлеб для проскомидии на Востоке готовился квасный, на Западе – употреблялись опресноки. Иконостас в восточных церквах; орган при богослужении в западных; форма построения храмов (латинский и греческий крест) – все это уже тогда довольно заметно обособило православного от католика, полемическая же литература усиленно питала эту обособленность.
Таким образом, дух неприязни, взаимного недоверия и вражды уже тогда охватил обе церкви, и христианство пришло в Древнюю Русь с взглядом на Западную церковь как на «латинскую», то есть нечистую и полную заблуждений. Русские люди стали воспитываться в отчуждении и ненависти к Западной церкви и ко всему тому, что с ней было связано, приравнивать латинство к «поганому» язычеству. Такая нетерпимость сделала невозможным влияние западной образованности в Древней Руси, к явному ущербу последней, так как Западная церковь в ту пору была большой культурной силой: школа, просвещение, письменность, литература, богатое наследие, доставшееся от Древнего мира, нашли в ней разностороннее истолкование. Вследствие этого культурная мысль Запада осталась вне круга русского мышления, которому долгое время, почти до времени Петра Великого, пришлось воспитываться исключительно на одних византийских образцах и идеалах.
Примечание. Мы видели, как громадны были последствия того, что христианство пришло в Россию из Византии, не из Рима. Для лучшего понимания этих последствий полезно уяснить себе, что создало привилегированное положение римских пап в Западной церкви и что дало им основание притязать на главенство во всем христианском мире. Причины были разные:
1. Политическое обаяние Рима-города прежде всего. Не в пример другим городам, Рим был «вечный» город, со времен римлян столица мира, Urbs, не oppidum, то есть город из городов. Одно уже это повышало римского епископа, имевшего здесь свою резиденцию, и выделяло его из среды остальных «провинциальных» епископов.
2. В сфере религиозной папа явился своего рода наследником римских императоров. Римский император в языческую пору был государем не только светским (caesar, augustus, imperator), но и духовным (pontifex maximus). Перенесение столицы на Восток, в Константинополь, поставило папу, в областях, где императорской власти не было, в положение преемника императора по делам религии, что и нашло свое выражение в принятии того же титула: pontifex maximus. Само царствование папы обыкновенно называется понтификатом.
3. Своего рода наследником римского императора явился папа и в сфере мирской жизни. Италия под гнетом постоянных варварских вторжений особенно нуждалась в защите и властной руке, способной остановить разрушительный поток, или по крайней мере ослабить его пагубные действия. За отсутствием верховной светской власти, папа, силою вещей, становился единственным авторитетным представителем христианского населения, единственным, кто мог дать ему эту защиту и охранить его интересы. Конечно, защита пап могла быть только моральной, но тем сильнее действовала она своим успехом на умы современников, тем более повышала в глазах благодарного населения представителя церкви.
4. Религиозное значение Рима. Римская церковь основана была, по преданию, двумя самыми главными и видными апостолами Петром и Павлом, что особенно возвысило ее над остальными церквями. Слова, обращенные Спасителем к апостолу Петру: «Ты еси Петр и на камени сем созижду церковь Мою», толковались в том смысле, что церковь, основанная Петром, есть основной фундамент церкви христианской и что сам он, апостол Петр, есть наместник Христа; а так как папы, по званию епископа, получили власть преемственно от Петра, то через него и они стали наместниками Христа.
5. Неукоснительное православие пап. В то время как на Востоке III–IX вв. были эпохой нескончаемых богословских споров и уклонений от православия, Запад сохранил себя от ересей (кроме ереси павликиан, местного происхождения, все остальные занесены со стороны, с Востока). Многие из восточных патриархов впадали в заблуждение, римские же папы, наоборот, оставались постоянно неуклонными хранителями православия; особенно проявили они чистоту своих верований во время иконоборства, выступая ревностными защитниками почитания икон (Григорий II и Григорий III).
6. Личные заслуги пап (Лев I, Григорий I). Остановлено нашествие Аттилы; франки, англосаксы и племена, жившие в Германии, обращены в христианство; вестготы, бургунды, лангобарды обращены из арианства в православие.
7. Территориальные размеры папского влияния. Обращение главнейших германских племен в христианство или в православие поставило местные церкви в варварских государствах в положение дочерей к Римской церкви-матери. Их создал папа, за ним и право руководить ими. Попытки местных церквей отстоять свою независимость кончились неудачей (Франция, Милан, Равенна, Аквилея). Таким образом, Западная и Северная Европа с центральной ее частью образовала как бы одну громадную епархию под властью и верховным наблюдением римского епископа.
8. Образование папской области. Начало светской власти пап положено было в 728 г., когда лангобардский король Лиутпранд подарил папе Григорию II во владение маленький городок Сутри; но настоящим светским государем сделался папа в 756 г., когда франкский король Пипин Короткий подарил папе Стефану II отнятый им у лангобардов Равенский экзархат. С тех пор к авторитету духовному присоединился еще авторитет светского владыки.
9. Юридическое оправдание духовного примата и светской власти пап. Возникновение светской власти по милости франкского короля казалось недостаточно почетным, и в VIII и IX вв. составлены были два акта, так называемые Дар Константина (Donatio Constantini) и Исидоровы (Лжеисидоровы) Декреталии. Хотя тот и другой документы оказались подложными, но в свое время (в течение всех Средних веков) их считали достоверными и считались с их постановлениями.
Дар Константина. Константин Великий, приняв крещение от папы Сильвестра, в знак своего духовного подчинения и в благодарность за исцеление от слепоты, перед тем поразившей его, подарил папе знаки императорского достоинства, Латеранский дворец, город Рим, Италию и все западные страны, признал его главенство над патриархами Александрийским, Антиохийским, Иерусалимским и Константинопольским, сам же перенес свою столицу на Восток: не подобает-де главе империи жить там, где живет глава церкви. Декреталии, сборник разного рода документов (писем, постановлений, в том числе и «Дар Константина»): папская власть выше всего на свете; папа – единый охранитель мира в церкви; ему принадлежит право суда над епископами; ему подчинены соборы, император; сам же он не подлежит ничьему суду.
VII. Просвещение в Древней Руси
1. Бедность просвещенияЗа Владимиром Святославичем и Ярославом Мудрым громадная заслуга – насаждение в Русской земле просвещения. Вводя и укрепляя христианство, то есть вводя русского человека в круг европейских народов, Владимир понял необходимость привить ему также и гражданскую культуру греков: перенять их образованность и знания; иначе говоря, не только сделать русских христианами, но и поставить их на ту же ступень образования, на какой стояли тогдашние греки, снабдить молодые силы, призванные к новой жизни, реальными средствами в предстоящей борьбе и охране своей национальности и государственности. С этой целью заводятся школы, привлекаются дети лучших граждан к учению, даже привозятся в Киев «два медных болвана и четыре медных коня», вероятно, какие-нибудь памятники древней скульптуры. Дело Владимира продолжал Ярослав, тоже заводивший школы, строивший церкви и выписывавший с этой целью из Греции мастеров-строителей и художников. Ярослав занимался переводом греческих книг, основал первую на Руси библиотеку. По выражению летописи, Владимир «взорал и умягчил» Русскую землю, просветив ее крещением, а сын его «насеял книжными словесы сердца верных людей».
Но подражателей первые наши князья-христиане себе не нашли, и просвещение, насажденное ими, корней не пустило – цель, поставленная русскому обществу, оказалась ему еще не по силам. Просвещение продолжало насаждаться, но исключительно церковное; школы дальше простой грамотности не пошли; литература, обогащаясь количественно, была переводная или подражательная, лишенная самостоятельности; а поучения, с которыми обращалось к народу духовенство, – простым сколком с византийских образцов. Исключение – «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона, блестящее ораторское произведение, полное внутренней силы красноречия, глубины чувства и воодушевления, несомненное свидетельство о совершенном знании ораторского искусства, как школьной науки. Но одна ласточка еще не делает весны; оазис в пустыне еще не даст жизни бесплодным пескам. Мирская литература до XVI в. почти отсутствовала (Поучение Владимира Мономаха, Слово Даниила Заточника, путешествия Даниила и других паломников), а поэтическая мысль, если и дала ценные образцы художественного творчества (былины, Слово о полку Игореве, Слово о погибели Русской земли, Задонщина), все же просвещения собой еще не выражала. Научного движения не существовало в Древней Руси ни в киевский, ни в московский периоды; знания технические ограничивались одной архитектурой, главным образом церковной.
А между тем на Западе в это время, хотя церковь и там наложила на просвещение свой религиозно-церковный отпечаток, в университетах разрабатывались философия, богословие (Париж), римское право (Болонья), медицина (Салерно); католичество, как вероучение, подверглось всестороннему изучению («Summa theologiae» Фомы Аквинского); народилась схоластика – стройная система научного мышления; даже в тесной сфере монашеской жизни наблюдается большое разнообразие ее форм (ордена бенедиктинский, францисканский, доминиканский); наконец, соприкосновение с арабами тоже немало расширило умственный горизонт западноевропейского человека (алгебра, медицина, география, поэзия, искусство, философия).
2. Какие были тому причиныКакие были тому причины? Народы Западной Европы, заняв земли Римской империи, смешавшись с местным населением и восприняв его культуру (романизация), были живым и непрерывным продолжением древних римлян; поэтому на Западе живая традиция просвещения никогда не прерывалась; просвещение могло временами падать и потухать, но никогда не умирало. Пытливый дух человека там никогда не угасал. Вообще на Западе наблюдается известная преемственность классического мира: толчок к умственной работе и материалы к ней даны были уже предварительно; огонь тлел под пеплом и только ждал, чтобы его раздули. На Руси, наоборот, не было самого огня, и, чтобы добыть его, требовались особые усилия и работа. В лице Карла Великого Запад воскресил старую империю, стал ее продолжателем и тем самым принял на себя нравственную обязанность позаботиться о самом главном, что завещал ему Древний Рим, – о просвещении. На Руси подобный нравственный стимул отсутствовал. Русский народ жил на окраине культурного мира, непосредственного соприкосновения с наследием древней цивилизации не имел; завести просвещение было ему много труднее; необычайно трудно было и взрастить его. Постоянные усобицы князей и татарское иго, в свою очередь, сильно тормозили просвещение народное.
VIII. Памятники духовной культуры
862—1054
Созданные ранее 862 г.
1. Чертомлыцкая серебряная ваза тонкой греческой работы IV в. до н. э.; найдена в 1863 г. в Чертомлыцком кургане (гробница скифского царя) на юге России близ Днепровских порогов; с изображением скифов, укрощающих диких коней (хранится в Эрмитаже).
2. Кульобская ваза из электрона (смесь золота и серебра) греческой работы III–IV вв. до н. э.; найдена в 1831 г. в кургане Куль-Оба близ Керчи в царском могильнике; с изображением сцен из скифской жизни (Эрмитаж).
3. Траянова колонна в Риме; в честь победы императора Траяна над даками; начало II в. н. э., с изображением сцен из борьбы римлян с даками-славянами.
NB. Некоторые ученые находят в изображениях этих двух ваз и колонны (одежда, вооружение, прическа, жилье) сходные бытовые черты из русской жизни в начальную эпоху русской истории.
Созданные в 862—1054 гг.
1. Церковный устав Владимира Святославича.
2. Церковный устав Ярослава Мудрого.

