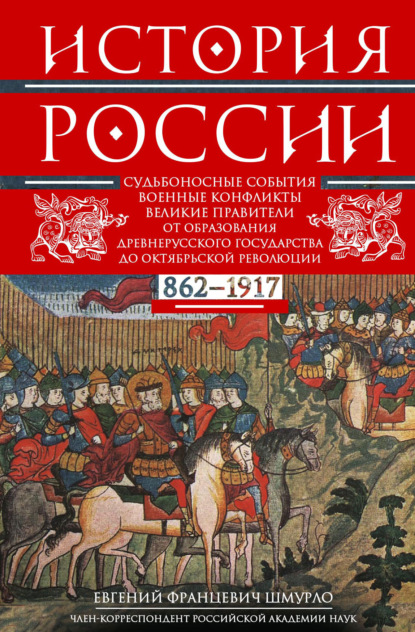
Полная версия:
История России. Судьбоносные события, военные конфликты, великие правители от образования Древнерусского государства до Октябрьской революции. 862–1917 годы
Вышесказанное пояснит нам, почему летопись называет его: «братолюбец, нищелюбец и добрый страдалец за Русскую землю».
Походы князей в половецкую степь при Мономахе, та энергия, с какой велось наступление, та бодрая вера в успех и желание, каким сгорали князья, проникнуть до самого сердца половецких вежей, чтобы решительным ударом навсегда освободить родную землю от разорительных вторжений этих полудикарей, напоминают подобную же борьбу, какую как раз в то же время Западная Европа вела против другого, тоже тюркского, племени – в Палестине.
«Славные русские походы вглубь половецких степей совпали с началом крестовых походов для освобождения Святой земли. Владимир Мономах и Готфрид Бульонский – это два вождя-героя, одновременно подвизавшиеся на защиту христианского мира против враждебного ему Востока» (Иловайский).
«Владимир Мономах не есть идеальная личность: он не избежал недостатков своего века (убийство двух половецких князей противно данному обещанию; разграбление города Минска); но его век не обладал теми достоинствами, какие были у него» (митрополит Евгений).
«Мономах принадлежит к тем великим историческим деятелям, которые являются в самые бедственные времена для поддержания общества, которые своей высокой личностью умеют сообщить блеск и прелесть самому дурному общественному организму. Мономах вовсе не принадлежит к тем историческим деятелям, которые смотрят вперед, разрушают старое, удовлетворяют новым потребностям общества: это было лицо с характером чисто охранительным, и только. Мономах не возвышался над понятиями своего века, не шел наперекор им, не хотел изменить существующий порядок вещей; но высокими личными доблестями, строгим исполнением своих обязанностей прикрывал недостатки существующего порядка вещей, делал его не только сносным для народа, но даже способным удовлетворить его общественным потребностям. Тогдашнее общество требовало прежде всего от князя, чтобы он свято исполнял свои семейные обязанности, не которовался с братией, мирил враждебных родичей, вносил мудрыми советами наряд в семью – Мономах во время злой вражды между братьями заслужил название братолюбца, умными советами и решительностью отвращал гибельные следствия княжеских котор, крепко держал в руке узел семейного союза. Новообращенное общество требовало от князя добродетелей христианских – Мономах отличался необыкновенным благочестием. Общество требовало от князя строгого правосудия – Владимир сам наблюдал над судом, чтобы не давать сильным губить слабых. В то время когда другие князья играли клятвой, на слово Мономаха можно было положиться. Когда другие князья позволяли себе невоздержание и всякого рода насилия – Мономах отличался чистотой нравов и строгим соблюдением интересов народа. Общество больше всего ненавидело в князе корыстолюбие – Мономах больше всего им гнушался. Новорожденное европейско-христианское общество, окруженное варварами, требовало от князя неутомимой воинской деятельности – Мономах почти всю жизнь не сходил с коня, стоял настороже Русской земли: в каком краю была опасность, там был и Мономах, „добрый страдалец за Русскую землю“. Если мы, отдаленные веками от этого лица, чувствуем невольное благоговение, рассматривая высокую его деятельность, то как же должны были смотреть на него современники? Не дивно, что народ любил его и перенес эту любовь на все его потомство» (Соловьев).
«Около его имени вращаются почти все важные события русской истории во второй половине XI и в первой четверти XII в. Этот человек может по справедливости назваться представителем своего времени. За ним в истории останется то великое значение, что, живя в обществе, едва выходившем из самого варварского состояния, вращаясь в такой среде, где всякий гонялся за узкими своекорыстными целями, еще почти не понимая святости права и договора, один Мономах держал знамя общей для всех правды и собирал под него силы Русской земли» (Костомаров).
IX. Памятники духовной культуры
1054–1169
Историко-литературные произведения
1. Поучения преподобного Феодосия, игумена Киевопечерского, 1057–1074 гг. «Почти все содержания нравственного. Они составлены не по правилам искусства и отличаются совершенною простотою, но проникнуты жизнью и пламенною ревностью о благе ближних. Тон поучений часто обличительный, но вместе глубоко наставительный и нередко умилительный и трогательный. Язык – церковнославянский, но имеющий некоторые особенности в словах и оборотах речи, и не чуждый влияния языка народного» (митрополит Макарий).
2. «Поучение» или «Духовная» Владимира Мономаха, начало XII в.
3. Летопись Нестора-Сильвестра, начало XII в.
4. «Хождение в Иерусалим» или «Паломник» игумена Даниила, начало XII в.
5. «Впрашанье» черноризца Кирика, с ответами новгородского епископа Нифонта (1130–1156). В этих «вопросах» и «ответах» отразилась современная им эпоха: остатки языческих суеверий, состояние нравственности народа и духовенства; младенческое состояние нашей церкви.
Сочинения духовного содержания
6. Остромирово Евангелие, писано для новгородского посадника Остромира, с миниатюрами, русской работы, 1056–1057 гг.; драгоценный памятник для изучения церковнославянского языка. [В настоящее время хранится в Российской национальной библиотеке.] Издано: СПб., 1843 и (фототипически) СПб., 1883.
7. Архангельское Евангелие, 1092 г., отысканное на Севере России. [В настоящее время хранится в Российской государственной библиотеке.]
8. Мстиславово Евангелие, писано до 1117 г., для новгородского князя Мстислава, сына Владимира Мономаха. При Иване Грозном Евангелие возили в Константинополь для переплета. Верхняя доска филигранной работы, серебряная, позолоченная; выложена драгоценными камнями и жемчугом; много финифтяных изображений (Исторический музей).
9. Юрьевское Евангелие, писано для Юрьевского монастыря в Новгороде, 1119–1128 гг. (Исторический музей).
10. Евангелие 1144 г., писано в Галиции (Исторический музей). Издано: М., 1882.
Евангелие 1144 г. есть так называемое четвероевангелие, то есть все 4 Евангелия расположены там полным текстом, одно за другим: Евангелие от Матвея, затем от Марка, от Луки и, последним, Евангелие от Иоанна; остальные Евангелия: Остромирово и т. д. – так называемое апракос: текст расположен в порядке чтения в церкви, на богослужении данной главы из данного евангелиста, по неделям, начиная с Пасхи.
11. Святославов Изборник 1073 г., с миниатюрами, в том числе изображение великого князя Святослава (сына Ярослава М.), с женой и 5 сыновьями – первые русские портреты, писанные русским художником. Сборник (в лист) есть копия болгарского перевода (с греческого подлинника), приготовленного для болгарского царя Симеона (889–927). Перевод этот, при переписке русским переписчиком, искажен руссицизмами. Содержание Сборника: статьи по философии, риторике, литературе, в целях истолкования Святого Писания (Исторический музей). Издано: М., 1883 и (фотолитографически) СПб., 1880.
12. Святославов Изборник 1076 г., как и тот, содержит разные статьи из творений Святых Отцов; в четверку. [В настоящее время хранится в Российской национальной библиотеке.] Издано: Варшава, 1894.
Артефакты
13. Подпись королевы Анны, дочери Ярослава Мудрого, вдовы французского короля Генриха I (ум. в 1060 г.), на латинской грамоте, данной аббатству Сан-Крепи, 1063 г.: «Ана Реъина». В это время Анна была женой, вторым браком, графа Рудольфа де Крепи (Crepy). Нынешний город Крепи лежит к северу от Парижа, на пути в Суассон.
Церковная архитектура
14. Церковь Успения Пресвятой Богородицы, в Киево-Печерском монастыре, 1073–1089 гг. Она была необыкновенной красоты, «небеси подобной». «Ее стены и иконостас блистали золотом, разноцветною мозаикой и прекрасною иконною живописью; пол состоял из разновидных камней, расположенных узорами; верхи были позолочены, а большой крест на главном куполе сделан из чистого золота» (митрополит Макарий). Перестроена в конце XVII в.
15. Михайловский собор в Златоверхо-Михайловском монастыре, в Киеве; внешностью схож с Киево-Софийским собором; 15-главый; купола позолочены; мозаики (уцелели жалкие остатки); 1108 г.
16. Георгиевский собор в Юрьевом монастыре под Новгородом; гладкие, без малейшего узора, стены величаво уходят в небо; формы храма простые, величественные, даже суровые; строил мастер Петр, 1119–1129 гг.
17. Георгиевский собор в Юрьеве-Польском, 1152 г., с богатой скульптурой; местами сплошная резьба стен; перестроен при Всеволоде III.
18. Преображенский собор в Переславле-Залесском, построен Юрием Долгоруким, 1152–1155 гг.; одноглавый; пилястры делят фасад на 3 неравные части.
19. Успенский собор во Владимире, 1158–1160 гг., одноглавый, с фресками; был богато украшен Андреем Боголюбским; после пожара (1183), будучи перестроен (1189) в пятиглавый, утерял первоначальный романский стиль; наружные стены обведены горизонтальным поясом из колонок.
Последние три храма все в Суздальской области, хотя и строились по византийскому плану (почти квадрат; купол на 4 столпах; алтарная стена образует 3 полукруглых выступа), но уже носят следы влияния романского стиля (пилястры; пояс из колонок; резьба на наружных стенах).
Иконы
20. Икона Божией Матери Одигитрии (Путеводительницы), Смоленская, писана, по преданию, евангелистом Лукой; привезена из Царьграда в 1077–1078 гг. (Находилась в Соборном храме Смоленска). [Первообраз утрачен после оккупации города в годы Великой Отечественной войны. Список хранится в Новодевичьем монастыре.]
21. Икона Божией Матери Владимирская, писана тоже Лукой, принесена в Киев из Царьграда в 1131 г. Андрей Боголюбский перенес ее в 1155 г. во Владимир – отсюда ее название, – а из Владимира ее в 1395 г. перенесли в Москву (Кремль. Успенский собор). [В настоящее время хранится в храме-музее Святителя Николая в Толмачах.]
22. Икона Знамения Божией Матери в Новгороде, отвратившая в 1169 г. от Новгорода рать Андрея Боголюбского (Новгород, Софийский собор).
23. Киево-Печерский монастырь, основан в 1057 г.
24. Антониев м-рь, под Новгородом, основан в 1117 г.
25. Юрьев монастырь в Новгороде, основан в 1119 г.
26. Боголюбов монастырь, основан после 1155 г. на месте, где остановилась (Владимирская) икона Божией Матери, привезенная из Киева Андреем Боголюбским.
Исторические ценности
27. Шапка Мономаха – памятник византийский, «который был выполнен не в Константинополе, но или в Малой Азии, или на Кавказе, или в самом Херсонесе (Таврическом), словом, в местности, где византийское искусство в XI–XII вв. соприкасалось с развитым арабским орнаментом. Мономахову шапку, по деталям техники, необходимо относить к XII веку» (Кондаков). Впрочем, другие ученые считают шапку произведением чисто восточным (египетский султан Калавун прислал ее Узбеку, хану Золотой Орды (XIV в.); позже, при падении Золотой Орды, она попала в число добычи московским великим князьям) (Оружейная палата).
28. Княжеская женская диадема, из 7 золотых створок с цветными эмалевыми иконками на них и с золотыми подвесками, русской работы конца XII в.; найдена в Киевском кладе 1889 г. (Эрмитаж).
29. Запись князя Глеба Святославича, внука Ярослава Мудрого, на камне: определение ширины Керченского пролива, измеренной по льду, между Тмутараканью и Керчью, в 1068 г.: «В лето 6576 инд. 6. Глебъ князь мерилъ море по леду от Тъмутороканя до Кърчева 10000 и 4000 саженъ» (Эрмитаж).
Суздальско-Волынский период
1169–1242
I. Характеристика периода
Основное содержание этого периода следующее.
Попытки создать общий политический центр и сплотить отдельные области в одно целое. Они ведутся в двух направлениях; на северо-востоке, в Суздальской земле: Андрей Боголюбский и Всеволод III Большое Гнездо (ум. 1212 г.); на юго-западе, в Галиче и на Волыни: Роман Мстиславич (ум. 1205 г.) и сын его Даниил Галицкий (ум. 1264 г.). Новгород, как и раньше, активного участия в политической жизни не принимает и входит в сферу влияния суздальских князей. Юг (Черниговская и Киевская области), обессиленный, становится яблоком раздора между Суздалем и Волынью (в 1195 г. в Киеве посажен Рюрик Ростиславич, подручник Всеволода III; Роман его выгоняет, но сам удержаться там не может. После Романа в Киеве утвердились было Ольговичи, князья Черниговские, но Всеволод и над ними берет верх. Позже Даниил Галицкий снова овладел Киевом).
Это образование двух центров, вокруг которых сходятся остальные русские земли, свидетельствует о том, что уже наметились те два русла, по которым позже потечет русская жизнь: московские князья будут продолжать дело суздальских князей, а литовские – объединять земли Юго-Западной Руси. Таким образом, последующий московско-литовский период русской истории (1242–1462) явится логическим продолжением и завершением настоящего суздальско-волынского периода (1169–1242).
Борьба со Степью продолжается даже интенсивнее, чем в предыдущий период, и в этой борьбе Юг окончательно хиреет и падает.
Княжеские междоусобицы продолжаются своим чередом. За 1055–1228 гг. насчитываются, в общем, 80 лет, прошедших в войнах, и только 93 года мирных.
II. Суздальская земля
1. Заселение краяДве колонизации – обе путем мирного проникновения в финские болота:
1. Древнейшая – из Новгорода, с характером чисто народным. Города: Ростов, Белоозеро, Суздаль.
2. Позднейшая – с юга, княжеская, начиная с Владимира Мономаха (даже раньше: Ярослав Мудрый основал город Ярославль на Волге); всего более обязана Юрию Долгорукому и Андрею Боголюбскому. Последний говорил: «Я всю Суздальскую Русь городами и селами великими населил и многолюдною учинил». Города: Переславль-Залесский, Москва, Юрьев-Польский, Дмитров, Стародуб, Галич, Звенигород, Тверь, Городец, Кострома и др.
Первая колонизация: переселенцы занимали ничью землю, устраивались самостоятельно, как могли и хотели; становились хозяевами на новых местах, ни от кого не зависимыми. Принеся из Новгорода вечевые порядки, они придерживались их и здесь. Таковы старые или старшие города.
Вторая колонизация: хозяином здесь был князь; земля была его собственностью; переселенцы селились на его землях. С первых же шагов они становятся в подчиненное к нему положение. Условия для развития вечевых порядков здесь отсутствовали. Таковы новые или младшие города (пригороды).
2. Какие признаки того, что край заселился выходцами с Юга?Переселенцы принесли с собой названия покинутых ими местностей и закрепили их за новыми поселениями; многие города и речки носят те же наименования, что и на Юге: Переславль-Залесский (то же и в Рязанской области: Переяславль Рязанский), Стародуб, Галич, Звенигород, Вышгород, р. Почайна, Лыбедь, Трубеж, Ирпень и др.
3. Отличие новых порядков от порядков Южной РусиКняжеская власть сложилась здесь на иных началах, чем на Юге. Там – первые князья явились пришельцами; они застали общественный порядок уже сложившимся и готовым (земледельцы-смерды на собственной земле; городское население – крупные землевладельцы и купечество – с развитой вечевой жизнью), и им оставалось лишь доделывать его, устанавливать подробности. Здесь князья сами строили и создавали; здесь они являлись творческой силой. В Суздальской земле первый князь «обыкновенно находил в своем владении не готовое общество, которым предстояло ему править, а пустыню, которая только что начинала заселяться, в которой все надо было завести и устроить, чтобы создать в ней общество. Край оживал на глазах своего князя; глухие дебри расчищались, пришлые люди селились на „новях“, заводили новые поселки и промыслы, новые доходы приливали в княжескую казну. Всем этим руководил князь, все это он считал делом рук своих, своим личным созданием» (Ключевский).
Таковы были Андрей Боголюбский, брат его Всеволод III. Выросшие на севере, они воспитали в себе понятия и привычки иные, чем те, что сложились на юге. Это были люди земли, не утопий, с практическим, трезвым взглядом на жизнь, без увлечений и фантазий. Андрей Боголюбский сознательно, без сожаления, променял беспокойный златоглавый Киев на скромный Владимир, затерянный среди финских лесов и болот: здесь он был полным собственником и хозяином, с положением гораздо более прочным и устойчивым, чем то, какое мог дать ему Киев.
Так сложился новый тип хозяина и вотчинника.
4. Тип хозяина-вотчинникаТип этот лишен той прелести, того блеска и благородства, которыми отличался характер южных князей: героев, предводителей дружин, которые не собирали себе ни золота, ни серебра, но все раздавали дружине и своей отвагой, беспокойной деятельностью расплодили Русскую землю, наметив границы ее европейской государственной области, неутомимо пробегая ее пустынные пространства, строя города, прокладывая пути через леса и болота, населяя степи, собирая разбросанное и разъединенное население. Работа благотворная, благодетельная, но этим она и завершилась: «Прочности, крепости всему этому они дать не могли по своему характеру; для этого необходим был хозяйственный характер северных князей-собственников. Южные князья до конца удержали прежний характер, и Южная Русь веками бедствий должна была поплатиться за это и спаслась единственно с помощью Северной Руси, собранной и сплоченной умным хозяйством князей своих» (Соловьев).
5. ПоследствияОни были троякие.
Вечевой строй не мог получить развития в Суздальской земле; старания старших городов удержать его успеха не имели. Против вечевых притязаний князья нашли себе опору в новых городах; им они оказывали, в свою очередь, всевозможную поддержку и столицей своей выбрали не Ростов и не Суздаль, где всегда могли встретить оппозицию со стороны местной аристократии, а ничтожный пригород Владимир на Клязьме. Новые города богатели, процветали, а старые хирели – хирел с ними и вечевой строй.
Ослабла родовая связь между князьями. Те духовные силы, что скрепляли князей если не в одну семью, то в один родственный союз, сильно теперь пошатнулись. Полновластный хозяин, неограниченный властелин у себя дома, в своих новых городах, суздальский князь таким же держал себя и в сношениях с сородичами. Они для него не младшие братья, а подчиненные; ими он считает себя вправе распоряжаться по произволу. «Хотел он быть самовластием», – говорит про Андрея летописец. Когда Ростиславичи Смоленские, его племянники, посаженные им в Киевскую землю, не исполнили его волю, Андрей Боголюбский не задумался приказать им уходить обратно в Смоленск, а двоих даже совсем хотел изгнать из Русской земли. «Мы до сих пор почитали тебя как отца по любви, – отвечали Ростиславичи, – но если ты прислал к нам с такими речами, не как к князю, но как к подручнику и простому человеку, то делай, что замыслил, а Бог нас рассудит». Слово «подручник» красочно определило сущность произошедшей перемены: «Южные князья поняли перемену в обхождении с ними северного самовластца; поняли, что он хочет прежние родственные отношения старшего к младшему заменить новыми, подручническими, не хочет более довольствоваться только тем, чтобы младшие имели его как отца по любви, но хочет, чтобы они безусловно исполняли его приказания, как подданные» (Соловьев).
Образовались вотчины-уделы. Завоевав Киев, а сам оставшись на прежнем месте у себя во Владимире, Андрей в корне подсек старый порядок перехода столов согласно «родовой лествице». На Юге этот порядок еще держится некоторое время, но в Суздальской области ему не стало более места. Территория распадается здесь на отдельные княжества, одно от другого независимые; каждое из них превращается в личное достояние князя, становится его вотчиной, то есть частной собственностью, которая переходит от отца к сыну, как отцовское наследие.
Раньше наследовали брат после брата, племянник после дяди, причем ни один князь не мог сказать: «Это моя земля, я располагаю ею, как хочу»: князь был только временным, не всегда даже пожизненным ее владельцем и правителем. Теперь это частная собственность князя, который передает кому захочет, брату или сыну, даже жене или дочери.
Две собственности, два хозяйства – это два мира, два отдельных замкнутых круга, и сколько возникло хозяйств, столько же образовалось и обособленных отдельных кругов-миров, иными словами, уделов. Таких уделов на Юге не могло быть, потому что там не было «хозяйств», княжества не составляли там частной собственности, у княжеского рода там все было общее, все были дети одного отца, внуки одного деда. «Мы не венгры и не ляхи, но потомки одного предка, и отказаться от Киева не можем», – говорят Олеговичи Мономаховичам. Любое княжество, будь это крупное: Киевское, Черниговское, или мелкое: Туровское, Торопецкое, все равно понималось как часть одного целого, связанная с другой частью узами кровного родства.
Вот почему удельный период начинается на Севере, со времени Всеволода III, не раньше; к периоду киевскому выражение это неприложимо. Летопись наша вовсе не знает слова «удел»; впервые выражение это встречается в половине XIV в. (договор сыновей Ивана Калиты). На Юге северному «уделу» соответствовали иные выражения: «стол», «волость»: такой-то князь сел на столе отца своего; такого-то князя лишили его волости.
В Суздальском крае общественный и политический порядок сложился иной, чем на Юге. Из этого нового порядка, как из зерна, выросло позже единодержавие и самодержавие московских государей.
III. Галич с Волынью
1. ГаличГалицкие и волынские князья каждый в своих интересах домогались гегемонии в Юго-Западной Руси. Первоначально успех был на стороне Галича, но он был непрочен:
внешние помехи: вмешательство во внутренние дела Галича соседней Венгрии и Польши;
внутренние помехи: вражда князей с местной аристократией-боярами (классом крупных землевладельцев).
Галицкий стол в течение всего XII в. переходил непосредственно от отца к сыну, стал наследственным в пределах одного колена:
Братья Василько и Володарь. 1097–1124.
Володимирко, сын Володаря. 1124–1152.
Ярослав Осмомысл, сын Володимирка. 1152–1187.
Владимир, сын Ярослава. 1187–1198.
Галицкие князья не переходили с одного княжения на другое, не переходила с ними и их дружина: служившие отцу продолжали служить и сыну. Дружинники, служившие у других князей в других областях вследствие постоянных своих переходов, мало дорожили земельной собственностью: последняя стесняла их. При своем кочевании с места на место они не могли образовать сословия, пустить прочных корней в области: везде они временные гости; значением и весом пользуются они, пока остаются неразлучными спутниками и верными советниками своего князя. Их службу очень ценят, князья не могут обойтись без нее; но стоит им только самим порвать с ней, покинуть князя – и все значение их блекнет, почва уходит из-под ног.
В Галиче не то: дружина там перестала быть временной, случайной гостьей в стране; она осела, обзавелась землей и превратилась в крупных землевладельцев, в первенствующее сословие, независимое от князя. Под влиянием Польши и Венгрии бывшие дружинники прониклись аристократическим духом; как там, они старались играть в Галиче видную политическую роль, подчинить князя своим видам и ослабить его власть.
Для примера: последний галицкий князь Юрий II (1325–1340) грамоты свои выдавал не только от своего имени, но и от имени своих бояр (nos una cum dilectis et fidelibus nostris baronibus militibusque), причем к самим грамотам привешивались, кроме печати князя, также и печати его «баронов».
2. ВолыньРоман Мстиславич, завоевав Галич и Киев (1200–1205), стал полным хозяином в Южной Руси. Недаром современники звали его «самодержцем всей Русской земли». Черты, сближающие его с Андреем Боголюбским и Всеволодом III: то же стремление создать сильную власть на основе не идейных отношений родства, а самостоятельного обладания реальной, ни от кого не зависимой силой. Но какая разница в обстановке! 1) Там князья опирались на верные и покорные им младшие города; здесь, вместо добрых сотрудников, Роман нашел боярство, силу, «пред которою никло значение князя» (Соловьев); недаром с такой энергией боролся он с галицкими боярами: «не передавивши пчел, меду не есть», – говаривал Роман; 2) там, на Севере, область, на которую из Ярославичей мало кто зарился; здесь – постоянная борьба с завистливой родней; 3) там соседями смирные инородцы-финны; здесь – воинственные поляки, венгры и половцы: постоянная угроза и с запада и с востока.
В результате:
а) В Суздальской земле процесс объединения территории и усиления княжеской власти совершается непрерывно; на юго-западе – он оборвался со смертью Романа и возобновился лишь спустя 40–50 лет при сыне Романа Данииле Галицком.

