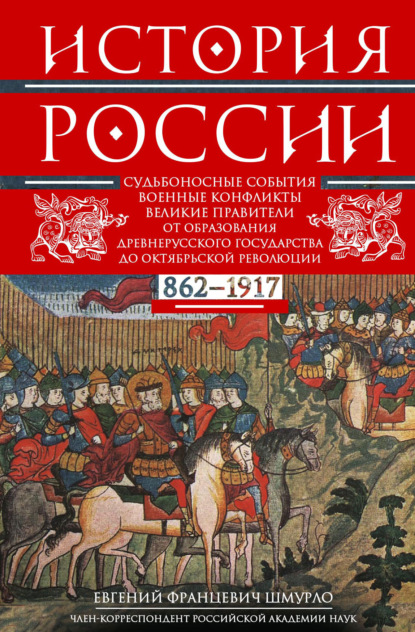
Полная версия:
История России. Судьбоносные события, военные конфликты, великие правители от образования Древнерусского государства до Октябрьской революции. 862–1917 годы
В лесной стороне нет степного раздолья, зато жизнь безопаснее и работа домостроительства устойчивее и вернее. «Лес, по самой своей природе, не допускал деятельности слишком отважной или вспыльчивой. Он требовал ежеминутного размышления, внимательного соображения и точного взвешивания всех встречных обстоятельств. В лесу главнее всего требовалась широкая осмотрительность. От этого у лесного человека развивается совсем другой характер жизни и поведения, во многом противоположный характеру коренного полянина. Правилом лесной жизни было – десять раз примерь и один раз отрежь. Правило полевой жизни заключалось в словах: либо пан, либо пропал. Полевая жизнь требовала простора действий; она прямо вызывала на удаль, на удачу, прямо бросала человека во все роды опасностей, развивала в нем беззаветную отвагу и прыткость жизни. Но за это самое она же делала из него игралище всяких случайностей. Вообще можно сказать, что лесная жизнь воспитывала осторожного промышленного политического хозяина, между тем как полевая жизнь создавала удалого воина и богатыря, беззаботного к устройству политического хозяйства» (Забелин).
Полевой юг приучил к казакованью, лесной север, наоборот, к сидению на месте, к общественности: выжечь ли лес, выкорчевать ли пни, вспахать поле – все легче с помощью другого, чем одному; оттого здесь больше, чем на юге, дорожили общественной жизнью и крепче держались ее; оттого и государственная жизнь установилась здесь прочнее, чем на юге.
Позже, когда на юге стало невыносимо от кочевников, население Приднепровья направилось на северо-восток, в лесную полосу и, колонизовав ее, положило начало великорусской народности. Таким образом, Поле и Лес наложили свой отпечаток на два разветвления русского народа: на малороссов и великорусов.
7. Русский Drang nach OstenНа Западе политические границы государства для каждого были очерчены, можно сказать, с первых же дней их существования и оставались в пределах данной народности почти без изменений. Совершались завоевания; чужие области силой оружия присоединялись, но именно потому, что они были чужие, населены другим народом, обыкновенно отпадали и воссоединялись с теми политическими организациями, от которых были насильно отторгнуты. Границы нынешней Англии, Франции, Испании, Италии или Швеции, Норвегии почти те же самые, какими они были при возникновении этих государств. Столетняя война в Средние века между Францией и Англией вернула последнюю в ее естественные границы. Итальянские походы французских королей в Италию в конце XV и в начале XVI в. окончились неудачно, главным образом потому, что выводили Францию за пределы ее естественных границ. Владычество Испании в Сицилии и Милане было непрочно по тем же причинам. Сравним еще: недолговечность шведского владычества в Северной Германии, австрийского на Апеннинском полуострове, испанского в Нидерландах. Одна только германская народность раздвинула свои границы и, продвинувшись за Эльбу, в восточном направлении (немецкий Drang nach Osten), колонизовала (германизировала) новые земли (славянские), превратив их в немецкие. Колонии, как мы их понимаем теперь, стали возникать лишь в Новые века: это всегда земли за пределами государства, обычно в странах неевропейских, особый мир, резко отграниченный от своей метрополии.
Такой колонизации Россия никогда не знала; ее колонизация сродни германской, только в большем масштабе. Русская колонизация – это постоянное раздвижение государственной границы, постоянный рост территории Русского государства. Чем была она вызвана? Равнинность Русской страны, легкость передвижения по речным путям и вынужденный уход с юга под напором азиатских кочевников выработали в русском народе большую подвижность и наклонность к передвижениям – черта, которая проходит через всю его историю. Пройдут века, прежде чем русский человек окончательно осядет и заведет себе прочное, постоянное жилье. Передвижения эти, не вполне законченные еще и в наше время, направлялись обыкновенно в сторону наименьшего сопротивления: уже при Рюрике русский человек сидит не только в Новгороде и Киеве, но и на территории финнов, в Суздальском крае (города Ростов, Муром); новгородские ушкуйники и промышленники с давних пор захватили весь север нынешней Европейской России; Уральские горы Ермака с его ватагой не задержали; в каких-нибудь 100 лет русские «землепроходы» прошли через всю Сибирь и дошли до берегов Тихого океана.
Наше продвижение на Восток было по преимуществу народным: правительство шло уже вслед за народной волной, лишь санкционируя совершившийся захват земель. Последний по времени факт этого рода: присоединение по договору 1883 г. с Китаем озерной области Марка-Куль (за хребтом Южного Алтая), куда русский колонист – раскольник и зверолов – стал проникать с половины XIX столетия. Продвижение же на Юг и особенно на Юго-Восток, хотя отчасти, тоже обязано народной инициативе (донские, запорожские казаки, заволжские раскольничьи скиты), велось главным образом самим правительством и носило характер преимущественно военный (борьба на Кавказе, Оренбургская казачья линия, завоевание Хивы, Бухары и Коканда).
8. Наследие Древнего мираГеографическое положение русской старины обусловило еще одну особенность в жизни русского народа. В потоке народов, хлынувших около Рождества Христова из Азии в Европу (германцы, славяне, литовцы), славяне пришли в ту пору, когда Западная и Средняя Европа были уже заняты, так что только некоторым (южным славянам) удалось разместиться по соседству или непосредственно в областях, испытавших на себе влияние классической культуры (Далмация, Фракия, Мизия, Дакия). Да и то влияние это было относительно слабое, совсем не то, что на землях древней Галии, Иберии или Карфагена. Что же до русского племени, то оно очутилось уже совсем на крайнем Востоке, куда древняя культура почти никогда не проникала. На северных берегах Черного моря в отдельных пунктах греки оставили было свои следы, но ко времени появления русских славян на Восточно-Европейской равнине следы эти совершенно исчезли; самая ближняя из культурных стран, Византия, была отделена степями и морем. Вот почему большого и непосредственного постоянного влияния на ход и развитие русской жизни цивилизация Древнего мира иметь не могла.
Иначе сложилась обстановка на Западе. Германские племена расселились там на самой территории Западной Римской империи, среди самих римлян или романизированного им населения; они восприняли культуру Древнего Рима и под влиянием романизации из прежних германских превратились в народы романские, по духовному своему облику став ближе к римлянам Цезаря или Диоклетиана, чем к своим предкам, германцам времен Тацита. Более неприкосновенным германский тип сохранился там, где новые государства сложились на территории, не испытавшей влияния Рима или где его влияние было совершенно слабое (Англия, Германия, Скандинавия, Ютландия); однако и здесь христианство, принятое из Рима, ввело эти государства в круг той же римской цивилизации, что и народы романские.
Такая разница в обстановке и географическом положении России и Западной Европы объяснит нам, почему культурное содержание западноевропейских государств значительно богаче и разнообразнее. На Западе новые государства с первых же дней своего существования получили в свое распоряжение богатый запас знания, накопленный предыдущими поколениями, Россия, наоборот, села на «пустое место», вследствие чего и культурное развитие ее шло медленнее и по содержанию оказалось много беднее.
II. Языческие верования русских славян
1. Основа общеарийскаяКак и остальные индоевропейцы, русские славяне поклонялись видимым силам природы, небесным и земным.
Для первобытного человека явления окружающей его природы полны загадочности, таинственной прелести, и чем они загадочнее, тем охотнее наделяет он их сверхъестественными силами. Для него буквально все полно сознательной жизни; весь окружающий его мир населен живыми существами, с такою же, как у него самого, волей, желанием, с такими же злыми и добрыми мыслями, как у всех людей вообще. Солнце, звезды, луна, сама земля – это живые существа; горы, лес, камни, травы и цветы – то же самое; гром и молния, дождь и ветер, рост дерева и шум водопада, таяние снега и вскрытие рек; мрачность леса и прозрачность воздуха в летний день – все это таинственные, непонятные проявления силы и жизни различных существ. Одни явления поражали его силой, размахом: разлив реки, завывание ветра, зной и мороз, бесконечная степь, дремучий, полный ужасов лес; другие – странностью своих форм: исполинское дерево с лапистыми корнями, темная пещера, отпечаток фигуры на камне; и чем недоступнее для человеческих сил были проявления этой жизни природы, чем таинственнее и величественнее представлялись они людскому воображению, тем сильнее приковывали к себе внимание, тем больше вызывали почтение и трепет. Первобытный человек «сознавал, что весь видимый мир от былинки до небесного светила одухотворен той же человеческой душой, ее мыслью, ее чувством, ее волей. Язычник, как новорожденное дитя, пребывал еще на руках, в объятиях матери-природы. Он чувствовал ее грозу и ласку, чувствовал, что эта вечная матерь наблюдает за ним непрестанно, что каждое его действие, помысел, намерение и всякое дело и деяние находятся не только в ее власти, но и отражаются в ее чувстве. Безотчетное и безграничное чувство любви и страха – вот чем был исполнен этот ребенок, живя в руках матери-природы» (Забелин). Эта близость к природе и сознание могучего влияния ее на жизнь человека привели к обоготворению природы и возвели это чувство на степень религии.
2. Русский ОлимпСилы небесные: небо – Сварог; солнце – Дажь-бог, иначе: Хорс, Волос (у западных славян: Велес); гром и молния – Перун; ветер – Стрибог.
Сварог – общий всем отец; остальные божества – его дети, сварожичи.
Разные наименования солнца указывают, подобно мифологии других народов, на разные свойства; но выделены эти свойства в мифологии неясно. В чем разница между Дажь-богом и Хорсом?! Отчетливее представляется Волос: солнце, как податель всех благ, между прочим, материального богатства; последнее состоит в обладании скотом – вот почему Волос стал скотьим богом (такому представлению естественнее было сложиться на пастушеском юге, а не на лесистом севере). Для сравнения: у финикиян: Бел – олицетворение благодатного солнца, дающего свет, тепло; Ваал – губящего (зной, засуха); Мелькарт – солнца, вечно двигающегося. У греков Мелькартом был Гелиос, а Бел из солнца материального вырос в солнце духовное, в Феба-Аполлона, в бога духовного света, нравственного совершенствования и вдохновения (своими лучами Аполлон убивает Пифона, духа тьмы; Аполлон и его музы).
Силы земные: Мать Сыра Земля (олицетворение производительных сил земли; сравним греческую Деметру, римскую Цереру); леший, водяной, полевик.
Культ предков: Род (божество-производитель), щур, рожаницы; домовой, русалки. Для сравнения: лары и пенаты у древних римлян.
3. Бедность русского ОлимпаРусский Олимп много беднее и бледнее Олимпа греческого.
Греческий Олимп богат уже одним количеством своих божеств, разнообразием форм в олицетворении сил природы.
Образы греческие гораздо ярче, определеннее; их черты выражены резче, полнее – божества же русских славян лишь намечены; их больше чувствуешь, чем видишь и осязаешь. Сравним: Сварог и Зевес; Перун и тот же Зевес; Мать Сыра Земля и Деметра; Дажь-бог и Аполлон; леший и пан с дриадами; водяной и нимфы.
Кроме того, русские божества лишены этического элемента: они олицетворяют только силы природы – значительная часть греческого Олимпа, наоборот, поднялась ступенью выше, до олицетворения духовных сил, моральных качеств и культурных проявлений деятельности человеческого ума. Сравним: Зевес в роли pater familias, верховного судьи; Афина Паллада – богиня разума; Аполлон – бог света духовного; Гермес – посланник богов, покровитель торговли; Гефест – бог ремесел, кузнечного мастерства и т. д.
Развитию греческой религии содействовало следующее:
она росла на свободе без внешних помех в течение долгих веков, имела время окрепнуть;
богатая фантазия грека сумела выработать яркие образы и найти им прочные формы;
особое сословие – класс жрецов – специально посвятило себя ее культивированию;
литература, наука, искусство, в свою очередь, прочно закрепили образы богов в сознании народном, оттого греческий Олимп оказался таким живучим и позже так долго отстаивал себя в борьбе с христианством.
В России, наоборот:
христианство захватило русское язычество, прежде чем оно успело достаточно развиться и окрепнуть, и потому легче могло подавить и заглушить его;
вместо жрецов здесь были одни только волхвы и кудесники;
русский Фидий и Пракситель способны оказались лишь на выделку одних истуканов грубой формы; ни литературы, ни науки на Руси до принятия христианства еще не существовало.
4. Отсутствие жреческого классаЖрецов не было в языческой Руси; были одни только волхвы или кудесники.
Различие между волхвом и жрецом. Волхв – это мудрец, знающий будущее, гадатель, знахарь, ближе смертного стоящий к таинственным силам природы – к божеству, как выразился бы верующий язычник; жрец – избранник бога, представитель на земле его интересов; знание и могущество жреца исходят непосредственно от бога. Волхв еще не жрец, но всякий жрец может быть и волхвом. Волхвом может назвать себя каждый и поддерживать в других это убеждение соответственными действиями; жрецом же может стать только тот, кого изберут и признают в этом звании особые люди, имеющие на то право; а где есть такие люди, там они не только поддерживают религию, но также и разъясняют ее, дают более отчетливое представление о сложившихся образах, стараются вкоренить убеждение в их справедливость и возвышенность – иными словами, развивают и укрепляют в обществе религиозные верования. Потому-то там, где нет жрецов, а одни волхвы, религиозные понятия и представления туманны и непрочны.
III. Варяги
1. Кто такие были варягиВаряги – это те же норманны, что совершали начиная с IX в. набеги на Британию, Францию, Сицилию, Южную Италию, гонимые туда из скудно одаренной родины (Скандинавия, Ютландия) материальной нуждой, влекомые жаждой подвигов, удальством и мыслью о легкой наживе. Они покидали свою родину отдельными, сравнительно небольшими дружинами или отрядами и, вернувшись домой, могли быть уверены, что найдут на месте и дом свой, и сородичей. В этом их отличие от франков, вандалов, вест- или остготов: те, снимаясь со старого селища, переселялись на новые места всем племенем, с женами, детьми, с домашним скарбом, со всеми стадами скота и табунами лошадей; после их ухода оставалось пустое место, которое могли занять другие племена. Одни норманны шли на Запад и известны там под этим именем (Nordmanner – северные люди: таковыми были они для жителей Средней и Южной Европы), другие выбирали Восток – этих обыкновенно звали (в Византии) наемники, наемные солдаты.
2. В чем их отличие от норманновНо различие между норманнами и варягами не в одном названии: норманны – преимущественно берсеркеры, удальцы, захватчики, морские пираты. Недаром появление их в Западной Европе вызывало в населении панический страх: недаром там сложилась молитва: De furore Normannorum libera nos, Domine («От ярости норманнской избави нас, Господи»). Свободное для всех море позволяло норманнам проникать всюду и безнаказанно. Варягам же, наоборот, путь в Царьград лежал добрую половину по суше, и, будь они исключительно шайкой грабителей и пиратов, прокладывай себе дорогу исключительно одним оружием, им бы не добраться до Царьграда, а если и дойти, то значительно ослабленными в силе и количестве. Между тем проезд через Русскую землю доставался им сравнительно легко – это потому, что из берсеркеров варяги превратились здесь в дружинников-торговцев: хотя и вооруженные с головы до ног, они все же прокладывали себе путь не столько насилием, сколько соглашением, связав свой личный интерес с интересом местного населения, и в самую Византию приходили не столько грабить, сколько торговать или нанимались там за плату в военную службу.
3. Двоякое положение варягов на РусиНе одна Византия притягивала варягов на Востоке: извлечь себе пользу умели они и в Русской земле, причем и здесь, хотя не отказывались при случае прибегать к силе, шли навстречу местным нуждам. При постоянных своих междоусобицах русские искали и находили себе в варягах военную помощь и содействие (на этой почве могла возникнуть легенда о призвании Рюрика с братьями); большие города (Новгород, Киев), где вырос богатый торговый класс, ценили варягов как военную охрану их торговых караванов. Таким образом, роль варягов на Руси была двоякая: где они завоеватели (Аскольд и Дир в Киеве; Рогволод Полоцкий), а где военная наемная дружина. Но грубая сила в ту пору значила много; такая дружина, естественно, приобрела в лице своего вождя конунга, властный голос в делах общественных и в результате, наряду с туземными племенными князьками (Мал в Древлянской земле), вскоре появились князья варяжского происхождения (Рюрик, Олег) и взяли окончательный перевес над теми.
4. Появление варягов не было «завоеванием»По добровольному ли соглашению или насильно оседали варяги в Русской земле, во всяком случае, появление их там не имело ничего похожего на завоевание Западной Римской империи германскими племенами; там целое племя овладевало территорией, захватывало власть, присваивало себе земельные богатства и, поработив местное население, лишив его прав и свободы, становилось в положение особого привилегированного класса победителей, причем новая аристократия обыкновенно резкой стеной отграничивала себя от побежденных. В России, наоборот, даже в лучшем случае варяги являлись ничтожной горсточкой, которая постепенно таяла в массе местного славянского населения, заранее обреченная на бесследное исчезновение (уже внук Рюрика, Святослав, носит чисто славянское имя). Сравним аналогичное явление в Нормандии: норманнский элемент – победители, распылился и там; норманны приняли язык и культуру побежденных французов, оставив по себе воспоминание в одном только названии завоеванной ими области – Нормандии.
5. Варяги-русь и Русь-ЗемляВарягов наши предки называли русью, русскими (финское название: руотси); название людей, дружинников перенесено было потом на страну: самая земля стала тоже называться Русью, Русской землей. Таким образом, следует строго различать Русь-страну и русь-людей: страна была славянская, люди – норманны, германского происхождения. Здесь объяснение, почему имена рек, гор и урочищ, равно и имена местных людей, чисто славянского корня:
Волхов, Ловать, Днепр, Десна, Новгород, Смоленск, Чернигов, Киев, Любеч, Переяславль, Боричев увоз, Щековица, Хоривица; Кий, Щек, Хорив.
Имена же первых князей и послов «от рода Русского», перечисленных в договорах Олега и Игоря с греками, наоборот, чисто скандинавского происхождения:
князья: Рюрик – Hrorekr; Синеус – Signiutr; Трувор – Thorvadr; Олег – Helgi; Игорь – Jngvarr; Аскольд – Hoskuldr; Дир – Dyri;
послы: Карлы, Инегелд, Фарлоф, Веремуд, Рулав, Фост, Шихберн, Турберн, Шибрид, Турбид, Фурстен и проч.
Здесь также объяснение и названиям Днепровских порогов, которые приводит император Константин Багрянородный в своем сочинении «Об управлении Византийской империи»: те, что обозначены «по-славянски», действительно славянского корня:
Островунипраг, Неясыть, Вулнипраг, Веручи, Напрези; а те, что обозначены «по-русски», сразу выдают свое скандинавское происхождение:
Ульборси, Айфар, Варуфорос, Леанти, Струвун.
История дает не один пример того, как чужое имя людей усваивалось страной, в которой они появлялись: славянская Болгария заимствовала свое имя от тюркских болгар; французская Нормандия – от скандинавских норманнов; иберо-романская Андалузия – от германцев-вандалов.
IV. Деятельность первых князей
1. Что положительного внесли они в русскую жизньВ русской жизни варяги сыграли роль фермента: дрожжи заквасили муку и дали взойти тесту. До варягов начатки гражданственности уже существовали: племенная жизнь с родовыми союзами, лесное и земледельческое хозяйство, торговля, города, но отсутствовал еще тот стержень, вокруг которого сгруппировалась бы работа русских людей; и если общность интересов смутно уже сознавалась, то не проявились еще наружу реальные силы, способные вызвать ее к жизни. В том и значение варягов, что это сознание общности своих интересов, обусловленной общей выгодой и общей опасностью, они действительно привили и воспитали в русских племенах вместо прежней жизни вразброд, указав общие цели и задачи. Этим заложен был первый камень в том фундаменте, на котором позже стал строиться весь наш государственный порядок и быт. Какими же путями, какой работой достигли варяги этих результатов?
Объединение племен
Оно совершилось одновременно насильственным и мирным путем. В орбиту русской жизни введены были: новгородские славяне и кривичи – при Рюрике; поляне, древляне, северяне, радимичи – при Олеге; вторично древляне – при Игоре и Олеге; вятичи – при Святославе; вятичи вторично и радимичи – при Владимире Святославиче. Кроме того, Олег пытался покорить тиверцев и уличей; Владимир – хорватов. В походах Олега принимали участие, кроме покоренных племен, также хорваты, дулебы, тиверцы и финские меря и весь; в походах Игоря – тиверцы…
Князья вводили в покоренных областях свое управление, набирали там себе войско, собирали дань, творили суд и расправу на основе справедливости, порядка и законности, и вообще клали начало гражданского правопорядка. Два столетия спустя после Рюрика о племенах уже нет более речи: их заменили области: Полоцкая, Смоленская, Черниговская, Киевская, Туровская, Волынская и т. д.
Оборона страны от внешних врагов
Олег и Владимир строят города, то есть возводят укрепленные места на границах со степью; с Игоря начинается и почти без перерыва тянется борьба с печенегами. Походы Святослава на хазар, ясов и касогов имели, несомненно, ту же цель: обес печить население Русской земли от враждебных действий степных народцев.
Охрана материального благосостояния страны (торговля)
Торговля вообще, и в частности с Византией, велась еще до появления первых князей; теперь она стала значительно интенсивнее. Русские купцы в Константинополе становятся обычным явлением, и князья берут на себя трудную задачу обеспечить им правильный и постоянный обмен товарами. Напрасно думать, будто походы князей на Византию были пиратскими набегами в целях легкой наживы: войны с греками должны были силой оружия обеспечить русским торговым людям то положение на византийском рынке, какого они там домогались. Как логический вывод этих походов – договоры, заключенные с греками (до нас дошли лишь договоры Олега, Игоря и, неполный, Святослава). Во имя тех же целей торговому каравану давалась во время пути военная охрана (особенно у Днепровских порогов и близ устьев Дуная – там и тут против печенегов).
2. Святослав и опорные пункты на пути в ВизантиюПамять народная наделила Святослава чертами богатыря, который проводит свою жизнь в вечных войнах и неустанных походах; он живет в суровой обстановке, свои походы совершает налегке: без обоза, без шатров. Конский потник и седло в головах составляли его ложе; зверина или говядина, испеченная на угольях, – его пишу. Стремительно, подобно барсу, кидался он на врага и, точно желая сознательно увеличить препятствия, заранее извещал о своем приходе, посылая сказать: «Иду на вас». В описании русской летописи Святослав напоминает тех норманнских викингов, для которых война, пролитая кровь, зарево пожаров составляли смысл и цель самой жизни. Но народное воображение схватило лишь внешние черты; для него остался непонятным скрытый смысл Святославовых походов.
Крупная историческая личность может все силы свои отдать на достижение эгоистических целей, но она умеет их совместить и неотделимо слить с благом общественным, что, собственно, и дает ей право на видное место истории. Завоевания Александра Македонского не только удовлетворяли личной жажде подвигов и завоеваний, но содействовали также культурному общению азиатского Востока с европейским Западом, взаимному воздействию двух культур. Юлий Цезарь, завоевывая Галлию, готовил себе средства для предстоящей борьбы с Помпеем и, действительно, приготовил их: Галлия дала Цезарю возможность стать «первым» не только в «деревне», но и в «городе». Но умер Цезарь, умерло его личное дело, а Галлия осталась, навсегда введенная в орбиту мировой жизни.
Подобный же смысл, хотя и без таких же результатов, имела деятельность Святослава. Торговые сношения русских купцов с Византией вследствие ее удаленности были сопряжены с большой опасностью и затруднениями; торговые караваны нуждались в опорных пунктах на длинном пути. Добыть эти опорные пункты явилось целью тех войн, какие вели с Византией Святослав и после него Владимир (пытавшийся утвердиться в Корсуни, на Таврическом полуострове). Берег моря на пути в Византию был всего необходимее, потому-то Святослав так и старался утвердиться на нижнем Дунае. В упорной борьбе император Иоанн Цимисхий разрушил его планы; но, удайся они Святославу, путь из Киева в Византию получил бы прочную точку опоры, а культурному воздействию Греции на полуварварский народ открылся бы более широкий доступ.



