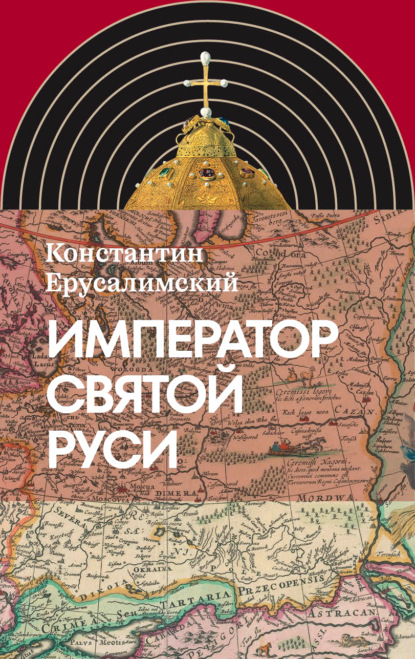
Полная версия:
Император Святой Руси
Еще князь А. М. Курбский выражал в глоссе к «Новому Маргариту», переведенному им с сотрудниками в эмиграции, то отношение к имперскому титулу, которое было характерно для его современников. В гомилии Иоанна Златоуста «О кресте и разбойнике» читаются слова:
Зриш, коликих благ виною нам крест есть? Поведай ми царствие! Воспоминаеш, что царскаго зриш? Гвоздие и крест есть что видиш! «Но сам крест, – рекл, – царствие есть!», – и того ради царем его нарицаю, иже распята зрю! Имъператоров есть за всѣх умирати, и царя добраго за всѣх полезность никогда же отрицатися мук. Сам рекл, иж «пастыр добрый душу свою полагает за овцы свои». И того ради император добрый душу свою за тѣх, коих управляет, полагати поспешается: иже тогда душу свою за нас положил, про то его императором нарицаю454.
Этот перевод и использованное в нем слово «император» могли отражать переводческие компетенции не самого Курбского, а его сотрудников, искусных в «римской беседе», как он сам признавал. Более вероятно его личное участие в составлении глоссы к первому упоминанию «имъператоров» в данном отрывке:
Сказ. Император различне на нас (так. – К. Е.) язык толкуется. Овогда – цесар, овогда – воевода великий, овогда – вож воев албо народов455.
В других случаях слово императоры не рассматривается у Курбского даже как титул, а сопровождается глоссой: повелители456. Впрочем, и монархию в глоссе к переводному тому «Иоанн Дамаскин» толкует как «единоначалие» – в приложении к единству Отца, Сына и Святого Духа («согласие убо тое, еже ко соединению естественному монархия»)457. Ни монархическая власть, ни имперская для князя Андрея Михайловича – не предмет политической рефлексии. Имперский титул – не предел мечтаний светской власти и не лучшая замена для царского титула, который уподобляет правителя Царю Небесному. Однако вместе с тем царский титул накладывает на правителя обязательства, сопоставимые с крестными муками. По Иоанну Златоусту: «Того ради царем его нарицаю, иже распята зрю». Крест – это и есть царство Христа, и если у Златоуста различие между имперским титулом и царским в этом отношении сглажено, то в своей глоссе Курбский все же подчеркивает, что титул императора применяется и в отношении цесаря, и говоря о «великом воеводе» (этот аналог в тезаурусе Курбского указывал на московскую военную иерархию, поскольку в польско-литовском контексте отсутствовал), и даже о военных и народных вождях. Вряд ли все три параллели устраивали реформаторов, инициировавших и осуществивших в конце 1546 – начале 1547 г. венчание Ивана IV на царство и его венчание с Анастасией Романовной, ставшей в силу венчания с царем царицей.
Разработанное осенью 1546 г. при участии митрополита всея Руси Макария и осуществленное 16 января 1547 г. венчание Ивана IV на царство и сразу вслед за ним – венчание с Анастасией Романовной (Захарьиной) 3 февраля 1547 г. создавало недвусмысленный ряд приоритетов: на первом месте для Москвы была местная церковная легитимность, в противовес Константинопольскому патриархату, который позднее поставили перед свершившимся фактом; на втором – соблюдение старательно разработанного обряда, во многих деталях и сущностных установках далекого от принятых как в католической Европе, так и в Византии образцов; на третьем – создание царской династии, которая после неудачного первого брака Василия III могла рассматриваться лишь как дополнение к уже свершившемуся носителю царской власти. Для Анастасии Романовны не было создано ни своего чина венчания на царство, ни особого обряда повторного венчания на царство обоих супругов. Она становилась царицей в силу самого венчания в брак с царем. Как показали события 1547–1556 гг., митрополита всея Руси Макария и его окружение, разработавших проект венчания юного великого князя Ивана Васильевича на царство, тревожило сакральное верховенство восточных патриархов, и на рубеже 1550–1560‑х гг. пришлось пойти на подлог, чтобы снять вопросы о православной легитимности венчаний в январе–феврале 1547 г.
Как и в правление Ивана III, царский титул был для московских властей выражением равенства не с Византией, а со Священной Римской империей. В 1514 г. на фоне разгоревшегося конфликта между Ягеллонами и Габсбургами Максимилиан I допустил в своем послании Василию III титул «царя» («кайзера»)458. Уже через три года в Вене отказались от этого титула, замирившись с Ягеллонами, и если для Москвы грамота 1514 г. представляла дипломатический прецедент, то для Вены и Кракова это событие не имело того же значения. В Вене продолжали видеть в Московской Руси далекого партнера, чьи интересы и имперские амбиции не стоили неоднократно скрепленного браками династического союза Габсбургов с Ягеллонами459. Именно в результате Венского договора Сигизмунда I Старого с Максимилианом I 1515 г. Москва изменила взгляд на имперский статус великого князя в европейской дипломатии. Одним из пунктов соглашения между императором и королем было снятие вассальной зависимости Пруссии от Священной Римской империи и превращение магистра Прусского ордена герцога Альбрехта Бранденбургского в независимого суверена. Василий III направил усилия на то, чтобы создать союз с Пруссией460, возможно отдав ему в жертву единство России с Гиреями, которое разладилось после таинственной – и тем более подозрительной для Салачика – гибели последнего заложника и гаранта российско-крымской дружбы Абдул-Латифа, сына Нур-Султан и пасынка ее третьего мужа Менгли-Гирея, в ноябре 1517 г.461 Актуальность имперского наследия в его обновленной римско-византийской версии наметилась в России после двух этих перемен – создания союза Габсбургов с Ягеллонами и разрыва союза между Рюриковичами и Гиреями.
Для верховных монархов Европы эти перемены в далекой России на всем протяжении XVI в. и позднее вплоть до начала XVIII в. не звучали сколько-нибудь внушительно. Не был имперский статус Москвы указкой и для Крыма: Чингизиды Гиреи видели в Рюриковичах не могущественных потомков Палеологов или Октавиана Августа (или, тем более, их матримониальных родственников), а своих холопов-данников, и амбиции ногайских князей считаться старше московского царя уже после его венчания на царство, даже если не всегда удачные, этот статус Османской Порты и крымских Гиреев надежно поддерживали. Отношение Габсбургов к Москве во многом было следствием и основанием для нового межгосударственного порядка, возникшего в 1515–1518 гг. Имперский посол в Москве Д. Шонберг прямо охарактеризовал Василию III этот порядок в словах о приезде в начале 1518 г. посла к Альбрехту Гогенцоллерну с наказом отговорить его воевать против польского короля:
И не добро, – по мысли императора, – что король прогонится, а царь всея Руси велик учинится462.
10 апреля 1525 г. антипольский союз развеялся окончательно и надолго. В этот день Альбрехт Гогенцоллерн принес клятву на верность королю Сигизмунду I Старому («hołd pruski»), который принимал оммаж в королевских регалиях и короне, полученной еще Болеславом Храбрым от императора Оттона III463.
В Москве около 1517 г. и не позднее событий 1525 г. взяли курс на создание альтернативной истории, которая должна была возвысить на фоне Империи одновременно Россию и Пруссию, при этом сняв на юг и восток от Москвы неприятные и отчасти унизительные для великого князя напоминания о союзе с могущественным Крымом. К этой картине имперского прошлого мы еще обратимся, а пока заметим, что с титулами императоров Священной Римской империи также не всегда считались.
Как и на польско-литовском направлении, Иван Грозный пробовал заставить контрагентов признать свой новый титул не мытьем, так катаньем. Свою грамоту от февраля 1560 г. он адресовал императору Фердинанду I только как «королю венгерскому», «Светлейшеству» и «Высочеству». По предположению В. Панова, «это умаление статуса кайзера способствовало прекращению контактов Фердинанда I с Москвой»464. Единственный раз, когда посольство Ивана Грозного приблизилось к заветному пределу в Вене у престарелого Максимилиана II, оно было срезано простейшей канцелярской уловкой. Когда в 1576 г. послам князю З. И. Сугорскому со товарищи была вручена грамота без царского титула в обращении к московскому государю, послы потребовали возместить упущение прямо по уже написанной грамоте, настояли на своем и дописали титул сами, но их требования скрепить такую грамоту новой печатью не увенчались успехом – в имперской канцелярии никого на тот момент не было, и пришлось послам везти царю распечатанную грамоту с приписанным царским титулом, который, конечно, был скопирован во внутренней документации Москвы и отразился в посольской книге465.
В Империи не шли на признание московских амбиций, понимая, что за ними открывается перспектива признать права Москвы на Ливонию и вступить в передел русских земель Речи Посполитой, на что Иван Грозный рассчитывал еще во время Варшавского сейма 1575 г., а в Вене не соглашались, ожидая своего полного права на троны Речи Посполитой466. Рудольф II показал свое отношение к Москве как в своих посланиях московскому государю, в которых он не титуловал его царем, так и в латинской рекомендательной (верительной) грамоте, направленной от имени императора «principi Moschorum» (то есть князю московитов) Ивану Грозному с Антонио Поссевино в апреле 1581 г.467
На этом фоне в Москве готовили сразу несколько сценариев исторического «воцарения» Ивана III, Василия III и Ивана Грозного. Один из них напрашивался, но его реализовать приходилось на полях исторических памятников – прежде всего летописей и хронографов. Приход варягов на Русь на рубеже XV–XVI вв. был прочитан как физический перенос империи «из Немец». Позднее Юхан III Ваза будет пользоваться этим предлогом, чтобы на непомерные упреки и претензии Москвы в адрес Швеции и ее монархов нанести симметричный ответ: заявления Ивана Грозного о своем немецком происхождении были в Стокгольме восприняты со знанием дела как развитие летописной версии возникновения власти, и это доказывало, что власть пришла на Русь от предков шведских королей, что не противоречило и родословию «от Немец», поскольку под Немцами в России понимали все германские народы, включая Швецию468. В Москве старательно следили, чтобы в Швецию не проникли исторические сочинения и родословные книги из России. Их экспорт из России был к 1570 г. полностью запрещен. В Шведском королевстве версия о приходе Рюрика и его братьев-варягов «из Шведского королевства или из вошедших в состав его земель Финляндии и Ливонии» к началу XVII в. станет канонической и будет подробно раскрыта в «Истории о Великом княжестве Московском» Петра Петрея де Ерлезунда (1‑е изд. – 1615 г.) и в диссертации Рудольфа Штрауха «Московитская история» (Дерптский университет, 1639 г.)469. В России версия шведских монархов о происхождении власти на Руси из Швеции, высказанная как симметричный ответ в борьбе за признание суверенитета Швеции со стороны Ивана Грозного, вызовет резкий ответ лишь в XVIII в. в одном ряду с высказываниями Сигизмунда Герберштейна о ложных претензиях московских правителей на владетельные права в Европе.
Второй сценарий опирался на учение о большой войне у истоков действующих властей Европы и Азии. Создателями этой версии были, видимо, византийские и римские интеллектуалы из окружения Софьи Палеолог, которая и сама оказывала воздействие на развитие монархического проекта в России. Идея предполагала, что Россия – одно из государств, возникших на пепелище разгромленного Рима. В летописных источниках, а также в известных на Руси византийских хрониках и Русском Хронографе подробно освещались нашествия варварских народов на Римскую империю и Византию. Одним из создателей ряда новых государств был поработитель Европы Аттила, пришедший с территории, на которой позднее возникла Русская земля. Один из спутников Софьи Палеолог на русской службе Юрий Малый Дмитриевич Траханиот доказывал в 1517 г. Сигизмунду Герберштейну, что Аттила и его брат Буда – предки Югорской земли и Венгерского королевства. Эта версия формально схожа с историей двух «братьев», Пруса и Октавиана Августа, и могла непосредственно повлиять на ее возникновение. Впрочем, неясно, как именно. В Москве знали сказания о братьях-гуннах, о возникновении венгерской столицы Буды от имени брата Аттилы, о подчинении гуннам Моравии и Польши, отстаивали венгерскую версию происхождения русской Югры, которая была к тому времени в титуле московских господарей, – из этого сочетания легенд делался вывод, что Москва, правя над Югрой, может претендовать на Венгерское и Польское королевства. Московские советники ориентировались на европейские этнологические выкладки (версию о венгеро-угорском родстве сообщают Мацей Меховский в «Трактате о двух Сарматиях» 1517 г. и Петр Рансан в венгерском разделе «Анналов всех времен», опубликованном в 1558 г.)470. После битвы при Мохаче 29 августа 1526 г. этот сюжет ушел в подполье, поскольку Габсбурги, аннексировав после этой битвы Пожонь и ряд других территорий Венгрии, считали себя наследниками короны святого Иштвана. De facto в 1529 г. корону Сулейман Великолепный передал их противнику и своему вассалу Яну Заполяи, однако его вдова Изабелла Ягеллонка, сестра Сигизмунда II Августа, после смерти мужа была вынуждена 19 июля 1551 г. подписать соглашение о выдаче императору Фердинанду I венгерских инсигний. Противостояние за Венгрию Москва не возобновляла, поддерживая в целом добрососедские отношения с Турцией и Священной Римской империей. В то же время на переговорах с послами не признанного в то время Иваном Грозным короля Речи Посполитой Стефана Батория в январе 1578 г. царь заявил свои права на Вену, сославшись на Дунайские походы своего предка, князя Святослава Игоревича, а в сентябре 1581 г. царь напоминал Антонио Поссевино, что будто бы предок (в данном случае не родословный, а лишь в значении «предшественник») московского царя Изяслав Мстиславич был выше своего шурина, венгерского короля Гезы II:
А звал король угорской великого князя Изяслава отцом… И то тогды каков стан был великих князей киевских, наших прародителей, и полских королей, и каковы полские короли с угорским королем, то вам вѣдомо471.
Этот пример из истории XII в. отражал официальные взгляды Москвы на прошлое – из Воскресенской летописи рассказ перешел в Лицевой летописный свод, откуда мог быть заимствован для переговоров с Поссевино (чтобы умерить гнев стоящего под Псковом польско-венгерского короля). Наконец, правовая доктрина, построенная на глубоко анахроничном «великом переселении» гуннов и угров-венгров, не была забыта ни в середине XVI в., когда ее воплотил на своей карте Антоний Вид, опиравшийся на показания московского окольничего-перебежчика И. В. Ляцкого472, ни в конце XVI в., когда ее представил в своей книге «О Русском государстве» Джайлс Флетчер (1‑е изд. – 1591 г.)473. Оба автора – Вид и Флетчер – были связаны с Герберштейном. Первый консультировался с ним, а второй читал его «Записки». У Флетчера заметно смещен акцент: царь, по его словам, считает себя не русским, а немцем, о чем прямо сообщает послам, а Венгрию считает частью «немецкой нации», и Флетчер не соглашается, настаивая на гуннской версии происхождения Венгрии.
Третья доктрина не противоречила первым двум и могла с ними в различных сегментах сращиваться. Согласно этой легенде, имперские князья Рюрик с братьями и их соратники явились на Русь и принесли туда власть и управление, осуществляя их совместно, всем родом. Когда Русь была порабощена татарами, князья совместными усилиями боролись против внешнего врага и избрали из своих рядов первых князей, символизировавших единство княжеского рода в борьбе за православное отечество. Эту версию русской истории отстаивает князь А. М. Курбский в своих сочинениях и глоссах к переводным памятникам. Говоря о смерти князя Федора, которого мы отождествили с князем Ф. А. Аленкиным, а Ю. Д. Рыков – с князем Ф. В. Сисеевым, автор «Истории о князя великого московского делех» пишет:
Другаго князя Федора, внука славного князя Федора Романовича, яже прадеду того царя губителя нашего, в Ордѣ будучи [яже еще в неволи были княжата руские у ординского царя и от его руки власти приимовали], помогл: за его попечением на господарьство свое возведен быти474.
Ничего из сохранившихся источников не известно о том, как князь Федор Романович Ярославский содействовал Василию II Васильевичу в получении ярлыка. Вряд ли это был вымысел одного зарвавшегося интеллектуала-ренегата или нонконформиста, который отказался принимать развивающуюся на его глазах каноническую версию событий. Наши знания о взглядах и творческих ориентирах Курбского противоречат самой возможности видеть в нем неформального мыслителя-авангардиста. Случившееся со страной в конце истории борьбы княжат русских за освобождение можно списывать на политическую программу князя-эмигранта, однако это был взгляд, встроенный в логику его общих представлений о русской истории. Курбский считал, что страну создавали и воссоздавали все власти Русской земли, а разрушили две тирании (в его понятиях, «два дракона») – внешние тираны-разрушители (прежде всего крымские Гиреи) и возгордившиеся общими успехами присвоившие их себе внутренние тираны вместе с их женами-чужеземками – Иван III (и Софья Палеолог), Василий III (и Елена Глинская) и Иван IV (вероятно, подразумевается Мария Темрюковна, хотя и отношение к Захарьиным-Юрьевым у Курбского крайне негативное).
Четвертым идеалом для Московского государства служили ветхозаветные цари. В 1547–1553 гг. после московских пожаров в церемониальной Золотой палате был создан визуальный ряд, соответствующий имперским идеалам: в сенях на сводах Моисей выводит избранный народ из Египта и передает власть Иисусу Навину, на стенах 10 батальных сцен из книги Иисуса Навина, а в самой палате крещение и брак с византийской принцессой князя Владимира, посылка даров от императора Константина Владимиру Мономаху и т. д. Предания дополнялись изображениями в парусах Сеней и Палаты праведных царей от Давида до Иосафата и князей от Владимира Святославича до Ивана Грозного. Дэниел Роуленд и Майкл Флайер считают, что, согласно замыслу создателей росписи, Владимир Святославич аналогичен Аврааму, а Иван Грозный – царю Давиду. Однако уже к 1553 г. в Москве сложилось устойчивое представление о том, что первым венчанным царем на русском престоле был Владимир Святославич. Ему точнее было бы привести в качестве соответствия царя Давида на восточном парусе Сеней. По композиционной логике изображения ветхозаветных и русских царей аналогом Ивану IV точнее было бы считать Иосафата, победителя моавитян и аммонитян, благочестивого последователя царя Давида. Символическое наследование при этом не препятствовало родословному, поскольку ветхозаветный прообраз служил и для Иоасафата, и для Ивана IV образцом для подражания, однако подобие в случае Ивана Грозного вступало в противоречие с аналогией – он стремился к тому, чтобы быть подобным царю Давиду, но был сходен по своей земной миссии с одним из его преемников, как сам был преемником равноапостольного Владимира Святославича475.
«Немецкую» версию повторяли вплоть до XVIII в., хотя она не вполне отвечала чаяниям московских властей, поскольку нуждалась в дополнениях. Легенда об историческом единстве Югры и Венгров (о братьях Аттиле и Буде) была приемлема до 1526 г. в конкуренции за европейское доминирование, однако становилась негодным ресурсом после битвы при Мохаче и не была частью сакрального наследства, поскольку власть гуннов в обличье угров не имела ничего общего с христианским миром. Было бы ожидаемо обнаружить реакцию московских государей на версию «федералистов». Если такая задача и возникла, то с ней в Москве не справились. Никакого целостного ответа и не могло быть, потому что почвы для него не возникло ни на уровне толкований известных исторических текстов, ни в близких к престолу ученых кругах, которые не отличались литературной изобретательностью и не приветствовали далекоидущих авторских вторжений в прошлое. Как результат, из обрывков и недомолвок в России возникли разрозненные, неполные и на поверку фантастические сказания об имперских правах, которые Н. С. Чаев назвал «церковно-политической фантастикой московских книжников XVI в.»476.
«Государь» или «господарь»?
Политическая терминология XV–XVII вв. сближает Российское царство с Короной Польской и Великим княжеством Литовским больше, чем позволяют судить научные словари наших дней. В развитие наблюдений Андраша Золтана за генезисом титула государь в русской и российской письменной традиции Б. А. Успенский выступил с гипотезой, что данный титул не происходит от древнерусского и распространенного в ряде других культур титула (г)осподарь477. Слово государь, согласно данной концепции, возникло в середине XVI в., чтобы подчеркнуть судебные функции царя (значимым компонентом слова го-суд-арь исследователь считает -суд-). В начале XVII в. царь Михаил Федорович и его родственники начали более открыто пользоваться титулом государь, хотя и до этого, по мнению Б. А. Успенского, данный титул бытовал не одно десятилетие в устном употреблении. Не ранее 1610‑х гг. возник и титул государя всея Руси (России), в неопределенный момент вытеснивший аналогичный господарский титул478.
Государев титул известен в русских землях и Российском царстве почти исключительно в сокращенной сакральной форме с сохранением согласных г-с-д-р. Полные расшифровки государственного титула «всея Руси» на всем протяжении правлений Ивана III, Василия III, Ивана IV, Федора Ивановича и царей Смутного времени содержат устойчивую и безальтернативную огласовку: господарь479. Иностранные путешественники до начала XVII в. знают только одну фонетическую форму в обращении к царю.
Генрих Штаден записывает латиницей слова обращения челобитчиков о делах господаря: «Umnie sost della haspodorky». Близко было бы транслитерировать эту запись приблизительным кириллическим соответствием у мне суть дела гасподор[с]ки480. В записках Иоанна Пернштейна конца 1570‑х гг. латинскими буквами передана русскоязычная формула обращения к царю: «Valik Tsar knes Hospodar podakh». Вероятное кириллическое соответствие фразы из застольного обращения царя при подаче чаши было бы: Валик царь, кнез, господар, подах481. Джайлс Флетчер в главе 12 своей книги «О Русском государстве» (1‑е изд. – 1591 г.) приводит подробный рассказ о том, как в России спиваются крепкими напитками в кабаках, опустошая свой и семейный бюджет и буквально раздеваясь донага (здесь автор приводит латинскими буквами слова «kabak» и «nagoi»). Пьют московиты, пишет Флетчер, «for the honor of gospodar’ or the emperor»482. По словам английского дипломата, русские пьют за честь господаря, или императора. Наконец, Жак Маржерет, служивший в России в начале XVII в. и покинувший страну осенью 1606 г., в своих записках (1‑е изд. – 1607 г.) воспроизводит титулы московского правителя: «Zar Hospodar y Veliquei knes»483. Буквальное значение этих слов – цар, господар и великеи кнез.
В сниженной и бытовой речи московитов европейские словари конца XVI в. отразили обе формы, господарь/господарыня («Aspondare»/«Aspondarenia» и др.) и государь/государыня («Asoudare»/«Assoudarinye»)484. Впрочем, еще и в начале XVII в. вариант государь был просторечной формой, относился к низкому стилю и, по-видимому, не мог употребляться в обращении к царю.
Казалось бы, перед нами ряд примеров иноземного «диктанта», который мог к тому же зависеть от подсказчиков из русских земель Речи Посполитой. Чтобы снять подобные сомнения, обратимся к источникам и попробуем снять противоречие между «высокими» огласовками на -по- и «низкими» на -у– в сакральном слове гдсрь/гд҃рь.
Один из самых богатых на титулы источников – посольские грамоты. Рассмотрим их в доступном ныне объеме. На греческом направлении сохранился след одного раскрытия в грамоте афонских монахов московскому царю 1558 г.: «Единому правому гс̑подару»485. Позднее в хиландарской грамоте, относящейся к последнему году правления Ивана Грозного, читается: «По сых, православ̑ны ц҃ръ и гс̑пдръ, възвѣщаем црс̑твию ти…»486 Как мы видим, практически на всем протяжении переписки Ивана Грозного с Афоном актуальна только огласовка господарь.
На шведском направлении также обнаружены следы огласовок, причем непосредственно российского происхождения. В посольскую книгу вошло послание царя королю Юхану III 1573 г., где вместо г-с-д-рствия (нашего) написано «господствия (нашего)», причем полностью, с огласовкой487. Именно составители Третьей «шведской» посольской книги воспринимали расшифровку господствия как замену для сакрального сокращения гс̑дрствия488.
От переписки с Речью Посполитой подобные примеры многочисленны, но очевидно, что они могут объясняться спецификой огласовки титулов на языках Великого княжества Литовского и Короны Польской. Здесь огласовка Господаръ/Hospodar была языковой нормой, а сам этот титул в приложении к Сигизмунду III Вазе был растиражирован, например, в Третьем Литовском Статуте – своде законов Великого княжества Литовского 1588 г., сохранявшем силу на всем протяжении существования Речи Посполитой и оказавшем влияние на российское законодательство XVII – начала XIX в.489 Поэтому неудивительно, что в современном русском списке с грамоты Ивана IV 1576 г., созданном для канцлера Великого княжества Литовского, титло дважды снято, и сходным образом титул передан в польском списке: «Писана в господарствия нашого дворе града Москвы… господарствия нашого сорок третего…»490; «Wsech wielky gospodar car y wieleky kniaz Ywan Wasziliewicz… hospodarstwa naszego…»491. В копиях Литовской Метрики, некогда входивших в архив канцлеров Великого княжества Литовского, такое раскрытие титла из московских грамот встречается нередко при полном отсутствии формы государь/государство: «Писана в господарства нашого дворе града Москвы»492, «А воеводство Седмикгродское подданое было Угорскому господарству…»493, «господарьствия нашего 43-го…»494, «мы, великий господар цар…»495.



