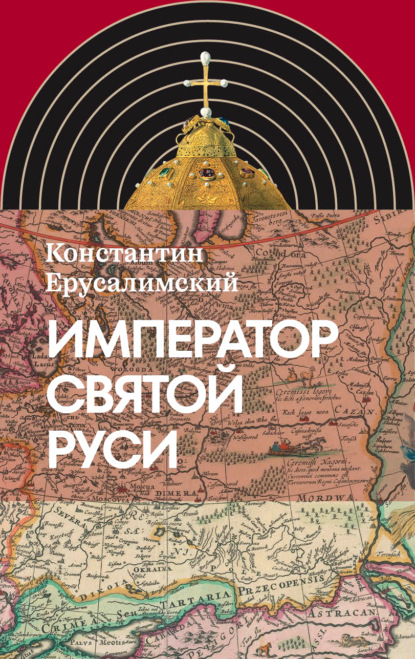
Полная версия:
Император Святой Руси
Несмотря на приведенные нами выше оговорки о принятых нормах написания титулов в Речи Посполитой, тенденция всех известных ныне посольских источников безальтернативна – никто ни в самой России, ни в других регионах мира, с которыми Российское царство осуществляло посольские контакты, ни разу не последовал огласовке на -у-. Множество изданий исторических источников Российского царства, упрощенно передающих языковые особенности текстов, грешат невниманием к реалиям XV – начала XVII в., навязывая несвойственные им огласовки.
Наблюдения за посольской документацией не противоречат иным источникам российского происхождения. В торжественной речи, произнесенной князем Даниилом Дмитриевичем Пронским на свадьбе Ивана IV с Анастасией Романовной в феврале 1547 г., царь назван Асподарь, тогда как его невеста перед вступлением в брак – великой княгиней и государыней. Вероятно, последний титул – ошибка огласовки, и следовало бы допустить, что в источниках XVI в. он выступает с огласовкой на -по- (господарыня)496.
Уникальный источник обнаруживается в своде грамот Вотчинной коллегии, сохранивших переписку одного из ведомств Поместного приказа с Великим Новгородом за 1572–1573 гг. В комплексе документации фонда встречаются как титул с полной огласовкой, так и сакральная форма государева титула:
Лѣта 7081‑го июня 2 дня по господаревѣ царевѣ великого князя Ивана Василевѣча всея Русѣ грамотѣ и по наказу гдр҃ве великого княз дѣяков…497
В данном источнике в подавляющем большинстве случаев используется сакральное сокращенное написание под титлом, что придает тем большую ценность «проговорке» одного из писцов, который в единичных случаях раскрыл сакральное сокращение по принятой для своего времени огласовке.
Таким образом, в распоряжении исследователей на сегодня немало источников, чтобы судить об использовании в правление Ивана Грозного и еще ряд десятилетий после его смерти государственного титула в единственной и общепринятой огласовке – господарь. И наоборот, у нас до сих пор нет ни одного надежного примера, в котором огласовка государь была бы использована в источниках XVI – начала XVII в.
Вернемся, однако же, к концепции Б. А. Успенского. Первый контраргумент, как представляется, заключается в том, что в нашем распоряжении есть свидетельства бытования огласовки -по- не только в сфрагистических источниках и дипломатии, но и во внутреннем приказном делопроизводстве, где к началу 1570‑х гг. могли бы проявиться тенденции устной практики. Тем не менее, по всей видимости, устная практика ничем в данном случае не отличалась от дипломатической и церемониальной. Следовательно, предположение о том, что титул государь бытовал в церемониальной практике, не будучи сниженной формой того же титула господарь, который много десятилетий спустя заменил, не находит подтверждений. Б. А. Успенский признал более вероятной до начала XVII в. огласовку на -по- и для таких nomina sacra, как гдсрь и гд҃рь. Из этого прямо следует: «Слово государь специального сокращения не имело»498. Таким образом, расхождения в графических версиях сакральных выражений не влияют на доказательность тезиса. В то же время возникает дополнительный вопрос: почему, не имея специального сокращения, слово государь не бытовало? Если принять концепцию Б. А. Успенского, то никакие сокращения для него и не нужны: суд, в отличие от господаря, в Российском государстве никогда не имел ограничений на графическое воспроизведение, а следовательно, и государь не должен был иметь. Это, в свою очередь, учитывая высокую частность в использовании судебной лексики во второй половине XVI в., делает крайне маловероятным происхождение слова государь независимо от слова господарь.
Попытки обнаружить огласовку на -у- в договоре «царевича» Дмитрия Ивановича (Лжедмитрия I) с Юрием Мнишеком от 25 мая 1604 г. предприняты А. Золтаном и Б. А. Успенским499. Однако это – результат недоразумения. Выводы основаны на издании начала XIX в., которое легко проверяется, поскольку сохранились не только источники публикации, но и первоисточники и ни один из них не содержит раскрытия сакральных слов. Раскрытие осуществили переписчики и издатели XVIII – начала XIX в.500 Не менее спорно и то, что переход от высокой формы к низкой в титуле господаря всея Руси произошел с приходом к власти Михаила Романова. С какого именно момента и в источниках какого вида огласовка на -у- получила признание? На этот вопрос ответа до сих пор нет. Еще Борис Годунов на печатях и воздухах (сударях) безальтернативно титулуется как господарь (с огласовкой на -по-)501. Примеры огласовки на -у- в правление царя Дмитрия Ивановича, как мы видели, не подтверждены, как и в более поздние правления – на малой государственной печати Василия Шуйского (1606 г.) и на малой печати Лжедмитрия II502.
На печатях царя Михаила Федоровича огласовка на -по- читается еще в 1625 и 1627 гг.503, а в Соборном Уложении Алексея Михайловича 1649 г. «Словарь русского языка XI–XVII вв.» фиксирует неоднократное раскрытие nomina sacra c огласовкой на -по-: «А будетъ кто измѣнитъ из Московъскаго господарства от<ъ>ѣдетъ в ыное господарство…»504 Политическая обстановка в России 1613–1645 гг. благоприятствовала расхождению между огласовками на -у- и на -по- в титулах верховного правителя.
С июня 1619 г. фактическим соправителем царя Михаила Федоровича был его отец – государь и патриарх всея Руси Филарет (Никитич). Его господство предполагалось как его пастырством, так и его родительским верховенством. Со времени этой диархии закрепилось двуединство царского государства и церковного господства. Во время свадеб царя Алексея Михайловича с Марией Ильиничной Милославской (1648 г.) и затем с Натальей Кирилловной Нарышкиной (1671 г.) патриархи Иосиф и Иоасаф II выступают перед венчающейся парой в роли отца, богомольца и великого господина505. Патриарх на свадебных церемониях – великий господин наряду с великим государем, соподчинение между ними не является предметом конфликта и вообще сравнения. Показательно, что Петр I, принимая имперский титул, узурпирует еще и патриарший титул отца, став Отцом Отечества, а тем самым присваивая себе пастырские функции.
С другой стороны, в правление царя Михаила Федоровича фактическим правителем России продолжал быть избранный, но не венчанный на российский престол сын польского короля Сигизмунда III Вазы Владислав Жигимонтович, взошедший на престолы Речи Посполитой как король польский и великий князь литовский Владислав IV, но сохранявший вплоть до 1634 г. свой московский титул – великого князя и в ряде источников царя Московии506. Это могло и послужить фоном для Михаила Романова, чтобы изменить звучание своего титула, хотя неясно, произошло ли это по единовременному решению или на продолжительном временном отрезке.
Соборное Уложение 1649 г. – ценный источник для выводов о бытовании титулов и политической терминологии, поскольку оно копировалось, неоднократно публиковалось печатным способом (три тиража – только в 1649 г.) и тиражировало на всю страну действующее употребление, даже если оно было для своего времени архаичным или отражало иноязычные влияния (например, законодательства Великого княжества Литовского). Огласовка -по- встречается в данном источнике четырежды (гл. XX, 33 – два раза; гл. XX, 35 – два раза). Однако во всех четырех случаях речь идет о побеге за границу в другое государство, а следовательно, господарством названы не Российское царство и его правитель, а иностранные политические реалии. При этом в Уложении более 900 нераскрытых сокращений гдсрь, гдсрьство, и их раскрытие под -у- огласовку также было бы преждевременным507.
Этикетная составляющая в использовании сниженных форм значима и неотрывна от политической истории России. Однако можем ли мы быть уверены, что «низкие» формы (в частности, огласовка на -у-) «спустились» с царственной высоты в широкие массы, как нередко это случалось с этикетными формулами?
Значимые для концепции Б. А. Успенского новообразования осу (асу) и сударь, как представляется, тесно связаны с (Милостивый) Государь. Они возникли к началу XVII в., вероятно, по той же колее, которой следовало преобразование Hospodar / Господаръ (Господарыня) в Сподаръ (Сподарыня) – Спадаръ (Спадарыня) / Сподарь (Господарка, Господиня) в белорусском и украинском языках, и было бы логичнее предположить, что обращение Сударь происходит от Государь не просто параллельно, а в тесной связи с преобразованием Господаръ в Сподаръ. Об отпадении (г)о- при образовании слова сподар раньше писали в словарных статьях, например, такие языковеды, как Б. Д. Гринченко и Р. Н. Малько508. Обратная схема, согласно которой слово сударь, будто бы, как и государь, возникшее от судити и будто бы само превратившееся через *госу́дарь в государь, опирается на догадку первоначального бытования слова сударь независимо от слова государь, последующего обнаружения этого сходства и прибавления к лексеме сударь элемента го-509. Данный ход мысли построен на двухэтапной абстракции – незафиксированном раннем бытовании словоформы сударь510 и незафиксированном же раннем бытовании словоформы государь, между которыми выстроена последовательность преобразования, которая также никакими источниками не удостоверена. Предпочтительной представляется схема, которой придерживался Макс Фасмер: «Из господа́рь произошло госуда́рь, затем – осударь, сударь, -с как сокращенное почтительное обращение… Слово связано с госпо́дь»511. По крайней мере, попытки «отвязать» слова государь и господарь друг от друга выглядят сегодня менее убедительно.
Итак, сакральный термин, используемый в Московском государстве в отношении носителя высшей власти, на всем протяжении изучаемого периода вплоть до правления царя Алексея Михайловича мог получать огласовку -по-. Вплоть до начала XVII в. данная огласовка была не только господствующей в деловой письменности и официальной устной речи, но и безальтернативной.
В нашем распоряжении вплоть до времени правления царя Михаила Федоровича нет ни одного свидетельства в пользу того, что огласовка -у- применительно к титулу царя вообще использовалась. В высоких контекстах не отмечено бытование огласовок на -по- применительно к женщинам-правительницам, хотя и само участие женщин в деловой и дипломатической переписке известно хуже, чем властная деятельность мужчин-правителей. При этом титул государыня/осударыня/сударыня (в сниженной огласовке на -у-) фиксируется с конца XVI в., и он мог оказать воздействие не только на мужские соответствия, но и на другие узусы, в том числе на общую практику озвучивания сакрального термина в деловой письменности и устной речи.
Несмотря на слабый пока уровень наших знаний об огласовке титулов в XVII–XVIII вв. в Российском царстве и Российской империи, можно предположить, что по меньшей мере вплоть конца XVII – начала XVIII в. титулы государя и господаря звучали в устах российских русскоговорящих, однако – это тоже предположение – титулы носителей высшей власти разошлись в значениях начиная с царствования господаря Владислава Жигимонтовича и государя Михаила Федоровича. Все больше огласовка господарь относилась к заграничным монархам, тогда как огласовка государь, придя в язык из давно бытующих в нем низких контекстов, была использована, чтобы отделить власть российского происхождения от неприемлемой отныне власти польско-литовского «королевича».
В «Прошении сенаторов к царю Петру I» от 22 октября 1722 г. грани между внутренним и внешним пересмотрены, поскольку отныне власть Петра Великого вновь обращена на мировой уровень – к наследию «римского и греческого народов». В новом титуле «Отца Отечества, Императора Всероссийского, Петра Великого» нет намека на противостояние с другими государствами, будь то Священная Римская империя или Речь Посполитая. Наоборот, по отношению к королевско-республиканской власти имперская – заведомо покровительственная, а по отношению к Священной Римской империи царь занимает положение подлинного наследника имперских оснований. В то же время к своему новому императору сенаторы (по происхождению российские, но по культурной функции – римские) обращаются с общепринятой вежливой формулировкой Всемилостивейший Государь, как к первому среди равных512. При жизни Петра I ни Речь Посполитая, ни Священная Римская империя его новый титул не признали, сохраняя за ним титулы царя и господаря.
«Сказание о князьях владимирских» и идеология царства
Обычно, когда говорят об имперской идее в России XV–XVI вв., в одном ряду рассматриваются московские царские инсигнии, визуальные репрезентации царской власти, послания псковского старца Филофея и комплекс сказаний о переносе царских регалий и атрибутов духовной власти на Русь – «Повесть о вавилонском царстве», «Послание о Мономаховом венце», «Сказание о князьях владимирских», «Повесть о белом клобуке»513. Названные здесь литературные памятники сформировались не одномоментно и имели ограниченный круг бытования. Исследование рукописной традиции «Сказания о князьях владимирских» и близких к нему памятников позволило ученым выдвинуть ряд датировок для возникновения ранних редакций «Сказания» к рубежу 1510–1520‑х гг. Этой предварительной, но взвешенной по ряду критериев дате противоречит считающееся самым ранним в данном комплексе «Послание Спиридона-Саввы» и текстологические особенности так называемой «Чудовской повести», которую А. А. Зимин относил к концу XV в. Согласиться с этими концепциями не представляется возможным, поскольку Спиридон-Савва, не имея ни компетенции, ни необходимых для этого знаний, не мог быть заказчиком сочинения, играющего ключевую роль в дипломатических отношениях середины 1510‑х гг. и более позднего времени514. Спиридону-Савве приписали Послание его (фиктивного) авторства – как на соборе 1666–1667 гг. «Повесть о новгородском белом клобуке», накладывая на нее запрет, приписали Дмитрию Малому Герасимову, будто бы написавшему ее «от ветра главы своея»515.
На другую распространенную ошибку в интерпретации «имперских легенд» также уже указывалось. «Сказание о князьях владимирских» в момент своего возникновения не имело ничего общего – ни в текстологическом смысле, ни своими авторскими кругами – с доктриной Третьего Рима: у этих двух идейных комплексов, как показал А. Л. Гольдберг, несходные истоки и контексты первоначального бытования516. «Сказание» отразило заказ на историческую легенду, нацеленную на конструирование в прошлом благоприятных условий для узаконения царского титула в России, возведение местной царской власти к библейским патриархам, развенчание генеалогии великих князей литовских, обоснование прав на равенство с императорами Священной Римской империи и византийское наследство, воплощенное в коронационных инсигниях.
До 3-4 августа 1514 г., когда в договорной грамоте Максимилиана I и Василия III великий князь на трех языках был титулован царем, а условия договора между сторонами подразумевали создание военного союза, – общий контекст российской дипломатии этому комплексу задач не соответствовал. Ни риторика чина венчания на великое княжение внука Ивана III князя Дмитрия Ивановича в 1498 г., ни интеллектуальные конструкции из окружения великой княгини Софьи Палеолог, ни авторитет московских представителей великокняжеского и королевского рода Гедиминовичей при московском дворе на рубеже XV–XVI вв., ни высказывания о власти интеллектуалов той эпохи не противоречат этому выводу и этой датировке.
Текст «Сказания» не получил широкого распространения, и этой особенностью московской книжной культуры, в частности, объясняется то, что источники «Степенной книги» и ранние версии Прусской легенды не были известны еще Г.-З. Байеру, Г.-Ф. Миллеру, В. Н. Татищеву, А.‑Л. Шлёцеру и Н. М. Карамзину517.
Появление в римском и русском прошлом родичей Октавиана Августа в обход Византии закладывало основания российской власти, тогда как Владимир Мономах будто бы получил их от ослабшего в войнах византийского деда и венчался первым царем «великиа Русия» (причем царем православного мира, поскольку католики «отпали» от христианства будто бы еще в IX в.). Связующим звеном между Римской Империей, Византией и Русью служило фантастическое сказание, перекроившее сведения летописей:
И в то врѣмя некий воевода новгородьцкий именем Гостомысл скончевает свое житье и созва вся владелца Новагорода и рече им: «О мужие новгородьстии, совѣт даю вам аз, яко да пошлете в Прусьскую землю мужа мудры и призовите от тамо сущих родов к себѣ владелца». Они же шедше в Прусьскую землю и обрѣтоша тамо нѣкоего князя именем Рюрика, суща от рода римъскаго Августа царя. И молиша князя Рюрика посланьницы от всех новгородцов, дабы шел к ним княжити. Князь же Рюрик прииде в Новъгород, имѣя с собою два брата: единому имя Трувор, а второму Синеус, а третий племенник его именем Олег. И оттолѣ наречен бысть Великий Новград; и начя княз великий Рюрик первый княжити в нем518.
Невозможно согласиться, что этот рассказ носил неофициальный или полуофициальный характер: именно такие вымыслы Посольский приказ апробировал на дипломатических партнерах, и исторический отрывок из «Сказания» в чинах царского венчания Ивана IV и Федора Ивановича также был рассчитан, прежде всего, на иноземцев.
Сказания о царском прошлом России свою задачу не выполнили и не могли выполнить – прежде всего, они не получили распространения среди читателей (судя по всему, для этого и не предназначались) и не убедили дипломатических партнеров в том, что российские князья имеют право называться царями. Возможно, функция имперских exempla и заключалась в том, чтобы звучать в церемониальной обстановке без особой надежды на проверяемость. Вместе с тем важно отличить различные составляющие в том, что путем многократных и разновременных усилий приняло вид единой истории.
Один из самых продуманных ответов местным «федералистам» прозвучал в «Сказании о князьях владимирских», памятнике рубежа 1510–1520‑х гг. Осколки нескольких исторических сообщений соединились в нем при помощи ряда вымыслов в одну схематичную доктрину. Будто бы царская власть наследовалась в России из домонгольской Руси благодаря соединению, буквальному схождению и принятию в чинах облачения, всех форм власти из высших империй мира. Исконной для всех властей последней земной империей, осмысленной из перспективы видений пророка Даниила, является Римская империя Октавиана Августа. Согласно московской легенде, его родич (предполагаемый брат) Прус получил в управление земли к северу от Империи и заложил Пруссию и Россию (Руссия – наследница Пруссии еще и по созвучию, хотя в «Сказании» об этом не говорится и подобные параллели никак не заявлены). Потомок Пруса Рюрик основал династию русских князей. Потомки Рюрика на какое-то время забыли о своем царском прирождении – непонятно почему.
Не знали этого ни в Москве в 1510‑е гг., ни в Европе XVI–XVIII вв., где эти легенды приходилось выслушивать на посольских приемах и в царских посланиях. Ни князь Владимир Святославич, ни князь Всеволод Ярославич, женившиеся на императорских дочерях, не вспоминали о своем царском титуле. Летописные памятники и европейские хроники не донесли о подобных амбициях никаких сведений. Будто бы благодаря военным демаршам и обмену посольствами регалии царской власти были получены сыном Всеволода и внуком Константина IX, Владимиром Мономахом, и им находились точные аналоги в «казне» московских государей начала XVI в. Как сохранялись эти аналоги многие столетия в своем первозданном виде и почему они настолько не похожи на царские регалии как самой Византии, так и Европы – ответов у книжников начала XVI в. не было.
Все недочеты общей схемы можно было списать на скороспелость этой истории, а также на ее тенденциозность – вымысел московских книжников призван был настроить Священную Римскую империю благожелательно по отношению к Москве как к своей ровне и наследнице Империи Палеологов и неблагожелательно по отношению к Ягеллонам, о которых в «Сказании» приводилась краткая справка с вымышленной легендой их происхождения от конюха (а не брата) князя Витеня (Витена) по имени Гегеминик (Гедимин, от него и его потомки – Гедиминовичи). Легенда была создана спешно «из того, что было», соединяя три союзных государства в исконное единое целое – Герцогство Бранденбургское, Священную Римскую империю и Русское государство. Как только поменялись обстоятельства и этот «Тройственный союз» распался, легенда превратилась в тяжелейшую обузу российского политического символизма.
Оказалось, что не продуманы были почти все ее важнейшие составляющие, и на их проработку критически недоставало информации. В какой степени родства с Октавианом Августом был Прус? Сколько поколений отделяло Пруса от Рюрика? Кто были эти пропущенные колена и почему их пропустили все доступные источники? Почему ко времени переговоров о царских регалиях Константин Мономах был уже не один год мертв? Где взять упоминания царских регалий на русских землях после их переноса из Византии и почему их не использовали так долго? Почему до Василия III никто из его ближайших и дальних предков не выдвигал подобных претензий и не приводил подобных аргументов? Почему ни в русских, ни в польско-литовских памятниках не отразились представления о низком происхождении Гедиминовичей, а в Москве князья из этого рода продолжали считаться первостепенной знатью и опережали в местническом счете даже местных суздальских князей?
На эти вопросы ответы были даны не единовременно, а по мере осторожного приспособления легенды к дипломатической конъюнктуре, нередко благодаря цепной реакции, нагромождающей новые вопросы на старые домыслы. С восточными юртами и Османской империей наследование от Пруса и Октавиана Августа никогда не обсуждалось и даже не упоминалось. Этой «имперской идеи» нет, поскольку нет прагматической надобности в подобном аргументе. Поскольку он не всеохватен, его не следовало бы и относить к миру идей. Понятие «империя» большинству восточных соседей России ничего не говорило. Империя Чингисхана имела своих наследников, к числу которых потомки Рюрика могли присоединить себя по женской линии, однако никаких матримониальных связей с татарскими царевнами у московского правящего дома не было, а связи царевичей-Чингизидов с московскими княжнами в расчет в данном случае не шли. Монгольское родство ни разу не было использовано в Российском государстве для обоснования имперского статуса. Царский и великокняжеский титулы в российской дипломатии на восточном направлении были начиная с 1547 г. единственным – и достаточным – постоянным механизмом статусной конкуренции со стороны Москвы, однако никакой иной предыстории, кроме царствования «господаря всея Руси» Ивана III на своих землях и венчания Ивана IV на царство, на этих направлениях не возникло519. Сузить бытование российской имперской риторики позволяет только европейская дипломатия России. В отношениях с европейскими государями, которые в России считались низшими по статусу по сравнению с российскими монархами, в качестве ultima ratio вступал в силу исторический аргумент. В Европе жертвами этой супрематистской доктрины стали страны, считавшиеся в Москве второсортными. Это Великое княжество Литовское и Корона Польская, государства Ливонии, Шведское королевство, Датское королевство после его раскола, Английское королевство, позднее – республики Венеция и Соединенные Провинции.
На польско-литовском направлении римское наследие вызвало наиболее бурное обсуждение, и не случайно именно здесь, как ни на одном другом участке российской дипломатии, краткие исторические экскурсы переросли в противостояние за имперские амбиции, за авторитеты в истолковании прошлого и права на будущее. До 1547 г. начавшаяся еще в конце XV в. война между Москвой и Вильно не приводила стороны к имперскому аргументу. Несмотря на внешнюю нелогичность такого вывода и стремление исследователей найти идеологические подноготные в позиции Москвы, на всем протяжении этого периода российская дипломатия не выступала в переговорах с Великим княжеством Литовским с позиций имперского превосходства и не приводила в защиту своих претензий ни римской, ни византийской, ни библейской доктрины, сколь бы то ни было напоминающей теории имперского наследия, Второго Константинополя, Третьего Рима или Нового Иерусалима. В 1503 г. папе Александру VI и выступавшему от его имени кардиналу Регнусу из Москвы отвечали о причинах разногласий с Литвой:



