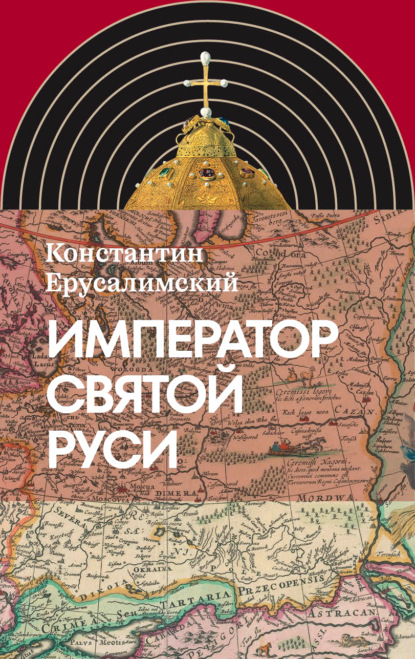
Полная версия:
Император Святой Руси
Римско-святорусские коннотации явлены в польско-литовской книжности, и особенно в «Синопсисе», который и привнес в российскую книжность плоды ренессансной книжности. Однако для Святой Руси в «фольклоре» XVII в., сказаниях о Китеже, позднейших культур-философских учениях, в добровольческом идеале За Русь Святую времен Гражданской войны и в едином народе Святой Руси патриарха московского и всея Руси Кирилла II этот симбиоз послужил отдаленным стимулом. Развитие мифа Святой Руси на русской «почве», а точнее – в политико-мистической публицистике эпохи национализма, подчинено этому первому раннему импульсу426.
Примеры бытования образа Святой Руси в Российском царстве начиная с 1619 г. говорят о том, что этому принципу оставались верны российские иерархи и позднее. Россия не получила прибавления Святая в самоназвании, в отличие от Священной Римской империи, Святая Русь не появилась ни в официальном богослужении, ни в сопутствующей книжности, а сама идея Святой Руси не стала значимой идеологемой Московского царства, а была «возрождена» как глубинная сокровенная утопия в модерную эпоху.
Мостом в восприятии Святорусской империи и Святой Руси от авторов середины XVI в. к поэтическим прозрениям и философским учениям Н. М. Карамзина, Н. М. Языкова, П. А. Вяземского, В. С. Соловьева, В. И. Иванова и других послужили не духовные стихи Голубиной книги (в ней Свято-Русь земля, очевидно, «фольклорный» новодел), а сочинения киевских интеллектуалов XVII – начала XVIII в., использовавших и развивших образ Святой Руси применительно к Православной империи с центром в Киеве или Москве427. В данном случае факт верховенства православного патриархата с престолом в Москве был переосмыслен в категориях европейского мышления, от которого в 1589 и 1619 гг. московская церковь отстранилась. Применительно к вечной, идеальной, утраченной, погибшей России изученная выше идеологема выступала позднее во всем своем риторическом многообразии в кругах российской эмиграции и – во многом под ее влиянием – в мировой, советской и российской науке428.
Глава 2
Император Святой Руси
Наука об империях
Имперское (царское) наследие, несмотря на отчаянные попытки исследователей представить его как целостный символический багаж, никогда не было в России единой традицией и не осмыслено никем из мыслителей как единый комплекс, который был бы встроен в российскую политическую систему или определял ее основания внешним теоретическим усилием429. С конца XV в. к великим князьям тверским, а затем – к владимирским и московским начинают обращаться подданные и отдельные заграничные партнеры как к царям (цесарям, императорам). Однако это не приводит к переименованиям, церемониальным декларациям, даже наоборот – великие князья владимирские и московские Василий II Васильевич, Иван III Васильевич и Василий III Иванович предпринимают попытки развить статус великого князя, дополнив его, срастив с различными определениями и возвысив на фоне других русских князей и зарубежных правителей.
16 января 1547 г. состоялось венчание на царство Ивана IV Васильевича. И само это торжество, и последовавшая за ним смена титула великого князя на титул царя и великого князя в официальной документации, а также перемены в международных ориентирах Российского государства могли бы натолкнуть на мысль, что в этот день Россия превратилась в империю. Но что изменилось, если не считать титула монарха, между 15 и 16 января 1547 г.? Можно ли считать, что 15 января 1547 г. Россия уже была империей, а на следующий день этот статус был зафиксирован, закреплен и применен к тем качествам империи, которые уже у страны были? Почему сами высшие власти в России не сочли венчание на царство достаточным, и за ним последовала череда преобразований по обоснованию царского титула, из которых не все были в равной мере успешными? И если царский титул был основанием для превращения России в империю, то почему ни сразу, ни десятилетия спустя после 16 января 1547 г. не сформировался автоматизм в переводе царского титула в имперский, и почему 22 октября (2 ноября по новому стилю) 1721 г. царь (то есть, по логике венчания на царство, верховный правитель, император) Петр I и российская элита сочли необходимым принятие новых титулов – Императора Всероссийского и Отца Отечества? Значит ли это, что еще 21 октября (1 ноября по новому стилю) 1721 г. Российское царство не было империей, а на следующий день ею стало? И что это было за качество, в каком объеме и в какой сфере жизни оно обнаружилось в эти дни в Российском царстве, становящемся Российской империей, и как именно мы могли отличить его от царского статуса?
В научной литературе существование империи в России XVI–XVIII вв. представляется самоочевидным политическим фактом, реализующейся задачей и даже механизмом, препятствовавшим возникновению национального государства и обеспечившим отсталость или особый путь развития430. Трудно оспорить ту истину, что в русских землях и Российском царстве и в конце XV в., и в начале XVIII в. были отдельные высказывания (дискурсы и нарративы), повествующие о царствах-империях и выражающие взгляды и отношение к имперскому наследию. Однако ни одно из этих высказываний (дискурсов и нарративов) не содержит ответов на поставленные нами вопросы. Мы, анализируя эти речи, не сможем найти прямых ответов на вопрос: что менялось с принятием царского или имперского титула? Что именно происходило с сувереном и страной в момент обретения этого нового качества? В настоящей работе будет предпринята попытка рассмотреть ряд таких высказываний (дискурсов и нарративов) как единое целое на всем протяжении с конца XV до середины XVIII в., изменчивое на протяжении их бытования в качестве обоснования властных амбиций, политического статуса и объема суверенитета московских, а затем санкт-петербургских монархов. Прежде всего, речь идет о давно введенных в научный оборот сказаниях о переносе власти на Русь и в Москву, а также об их применении в политической (главным образом в дипломатической) практике.
Цель проведенного анализа не в том, чтобы понять некий «истинный смысл» высказываний и сказаний или обнаружить «единственно верные значения» заключенных в них дискурсивных объектов. Вернуться к смыслам и вопросам на понимание важно без отрыва от самих текстов и контекстов их бытования. Возможно (и это предположение служит нам в своем роде рабочей гипотезой), что именно в связках между дошедшими до нас репрезентациями царской и имперской идеи XV–XVIII вв., с одной стороны, и известными ныне фактами бытования (прежде всего имплементации, то есть введения в оборот) этой идеи или – это было бы, как мы увидим, точнее – отдельных идей обнаружится круг ответов, которые позволят разграничить формы власти, и среди них – власть княжескую, великокняжескую, царскую и имперскую, а также подойти к проблеме существования некняжеской власти, власти как таковой.
Наше исследование разворачивается в рамках интеллектуальной истории и в меньшей степени – истории политической культуры и политической антропологии. Увидеть в империях большие политические общности с разветвленной и немонолитной администрацией, конкуренцией местных элит за места в центральном управлении и идеологией экспансионизма еще недостаточно, чтобы устранить две другие опции. Одна из них – представление об одной легитимной мировой империи, другая – о невозможности империй после падения Римской империи, которая, по всеобщему согласию, все же когда-то рухнула431. Если империя одна, то как быть с другими политическими общностями, которые похожи по каким-либо критериям на империи, а нередко при этом – да и не задумываясь о критериях – претендуют на статус империи? И если империя – это историческая структура, то можно ли считать амбиции ее возродить предметом достижимого согласия между всеми, кто хотел бы быть ее наследником? Сразу важно отметить, что мы отнюдь не считаем самоочевидным тезис о существовании органических империй и о России как одной из них. Грань между понятиями империя и суверенное государство в рамках теории органических империй настолько зыбка, что решение поднятых нами выше вопросов по ее лекалам привело бы нас к совершенно иной оптике и к ответам, которые не представляются сколько-нибудь внятными, по крайней мере до тех пор, пока не обсуждается рецепция «органических» идей и сам круг их бытования. А это уже предмет другой дисциплины.
Несколько в иных формах сходные вопросы задаются из политологической перспективы. Относится ли монархия или государственный строй (или даже политический режим) Русского/Российского государства к тому или иному политическому типу (например, к сословной или сословно-представительной монархии, феодальной монархии, удельному или вотчинному строю, патримониальной монархии, абсолютизму, просвещенному абсолютизму и т. д.)? Подобные вопросы далее в нашей работе не поднимаются. Впрочем, они возможны в каком-то другом ракурсе, учитывая, что методологическая составляющая этой работы ближе к постановкам Кембриджской школы. В целом Квентин Скиннер убедительно снял этот круг проблем из оптики интеллектуальной истории, когда на ряде примеров (был ли Марсилий Падуанский автором теории разделения властей, повлиял ли Никколо Макиавелли на Томаса Гоббса, а Гоббс – на Джона Локка) доказывал, что «вечные» и прочие безотносительные вопросы «не просто носят формальный характер, но, строго говоря, недействительны, поскольку не относятся ни к каким реалиям, а потому бессмысленны» и что невозможно даже переформулировать ни один из этих вопросов «так, чтобы он имел смысл для самого субъекта»432. Впрочем, в данном случае мы намеренно несколько утрируем критический пафос К. Скиннера: он был нацелен не в политические типологии, а в пороки интеллектуальной истории, которые им предшествуют при работе с первоисточниками. Конечно, это мотто и исследовательский ориентир не снимают герменевтических опций и предпосылок, на которых основаны интерпретации. В наших случаях немало трудностей с идентификацией авторов изучаемых высказываний, дискурсов и нарративов. С другой стороны, это отличие компенсирует фокус не на теориях или доктринах, а на публичных и церемониальных репрезентациях тех или иных мотивов различных сказаний. Если мы и не можем в полном смысле задаваться вопросами о том, «кто автор» и «что хотел сказать автор», это отнюдь не лишает нас возможности задаваться всеми остальными вопросами герменевтики433.
Прорывными в интерпретации империй в их европейской (римско-габсбургско-британской) модели были книги Рифаат Али Абу Эль-Хаи 1991 г. и Доминика Ливена 2000 г., наводившие имперскую оптику на Турцию, Россию и Китай434. В развитие сходной проблематики и концепций империологов Майкла Дойла и Томаса Барфилда Зенонас Норкус в 2009 г. выступил с тезисом о том, что Великое княжество Литовское, никогда не бывшее по самоназванию империей, чьи государи (господари великие князи литовские) не достигли даже королевского статуса, тем не менее должно рассматриваться в ряду империй, конкурирующих за imperium в силу военного экспансионизма, сакрализации высшей власти и политических амбиций транслировать Римскую империю. Российская империя, по логике З. Норкуса, унаследовала экспансионизм Великого княжества Литовского и претендовала на imperium именно в силу этого преемства от Литвы435.
Парадоксальным совпадением взаимоисключающих оптик в российской историографии XIX – начала XX в. стало наложение языка колонизации, при помощи которого В. О. Ключевский формулировал специфическую национальную особенность русской культуры, на язык политической идеологии, в котором ко времени, когда разгорелась и тянется поныне дискуссия о том, при попощи каких факторов следует конструировать концепт имперского расширения России (см., в числе прочих, исследования Б. Н. Миронова, А. И. Миллера, Веры Тольц, Вилларда Сандерленда, Андреаса Каппелера, Джеффри Хоскинга, Нэнси-Шилдз Коллманн, Мэтью Романьелло, Санджая Субраманьяма, Рикарды Вульпиус)436.
Этот понятийный бриколаж подчинялся логикам современных ему научных редукций и мыслительных коллективов, если пользоваться аналитическими категориями Людвика Флека и Томаса Куна. Например, в научной литературе прижился предполагаемый латинский аналог того сюжета, который представляет превращение России в царство и империю, – translatio imperii. Он, как мы увидим, лишь затрудняет ответ на поставленные вопросы, особенно учитывая семантические и контекстные различия между словами царство и империя в русском языке этого времени. Поясняя терминологическую трудность, обратим лишь внимание на то, что в понятии translatio сильна гравитация значений, связанных с перебрасыванием, передачей, прохождением (через что-то), – тогда как в России XV–XVIII вв. преемство царства из Рима мыслилось как длящееся царство, в котором транслировались лишь отдельные символы царской власти, в то время как сама царская власть латентно, а затем открыто оставалась на своем месте. Кроме того, концепт translatio imperii не позволит понять, зачем понадобился переход от царства к империи, поскольку ни о каких качествах, транслируемых из Российского царства в Российскую империю и превращающих царство в империю, говорить не приходится.
В то же время взаимный перевертыш Российской империи и русской нации в ту эпоху, о которой ниже пойдет речь, никакой научной роли для нашего исследования играть не может, поскольку, во-первых, в России XV–XVIII вв. имперские идеи возникали и звучали и ни одна из них прямой связи с доктринами расширения территории, создания унитарной администрации или иерархии проживающих на единой территории народов не имеет. И во-вторых – поскольку у доктрин России как империи и России как нации вполне удостоверенные собственные истоки, не находящие подтверждений ни в событиях конца XV в., когда Иван III отказался превращать свою страну в царство или королевство, ни при Иване Грозном, когда монарх был венчан на царство, ни в эпоху Ништадтского мирного договора, когда совершился формальный переход от царства к империи437.
Великий князь как император
До конца XV в. фактическими правителями (носителями высшей светской и военной власти) русских земель были князья. Царства – будь то римские, европейские, турецкие или татарские – не вызывали у писателей русских земель и у князей ни зависти, ни тревоги за свой суверенитет, ни амбиций возвыситься при помощи титула над другими князьями. Использование титулов каган, василевс, царь, цесарь применительно к носителям высшей власти в русских землях было эпизодическим и протокольным, при этом никогда не становилось наследственным438. Расцвет в конце XV – начале XVI в. «царской» риторики в окружении Ивана III и Василия III (в числе прочих у таких близких к посольскому ведомству авторов, как Вассиан Патрикеев, Ф. И. Карпов, Максим Грек) также предполагал совершенствование качеств правителя у носителя великокняжеской власти. Образцами для подражания оставались в этот период князья прошлого – их лики воссоздавались в житиях и оказывали непосредственное влияние на круг сравнений и на политические ориентиры439.
С конца XV в. и вплоть до революций начала XX в. имперский статус вызывал оживленный интерес у правителей различных регионов Руси и России, однако единства в восприятии имперских традиций также не существовало. В отношениях с европейскими государствами, но не со Священной Римской империей и не с Ягеллонами, в конце XV в. российская дипломатия отстояла царский статус. Прежде всего, из ближайших соседей, – с молдавскими господарями и Данией. Около 1488–1490 гг. Иван III предпринимал попытку отказаться от великокняжеского титула в пользу господарского «всея Руси» в отношениях с наследниками Орды, прежде всего с казанскими потомками Улуг-Мухаммеда, крымскими Гиреями, Большой Ордой, Казанью и Астраханью440. Эта попытка не принесла успеха, хотя она могла приравнять господарский титул к царскому (ханскому). Отказ от царского титула происходил осмысленно и демонстрировал осознанное, в полной мере обоснованное с позиций Ивана III нежелание превращать себя в царя, а страну – в царство. С 1472 г. Иван III – в браке с Софьей Палеолог и формально включен в борьбу за Византийское наследство. Браки между Рюриковичами и византийскими династическими отпрысками случались и ранее, но ни в прошлом, ни на рубеже XV–XVI вв. они не вызывали на Руси амбиций превратиться в «такую же» империю, какой был Второй Рим441. Имперские притязания Москвы определились в этот период как адресованные партнерам в одном-единственном регионе – Центральной Европе и Империи Габсбургов. В 1489 г. Иван III отказался принимать королевскую корону из рук императора Священной Римской империи, поскольку в его понимании царский и королевский титулы вступали в противоречие с титулом господаря, а следовательно, наносили ущерб суверенитету московского правителя над Русской землей442.
Статусное неравенство с ордынскими царствами не тревожило Москву. Когда в 1480 г. ростовский архиепископ Вассиан Рыло обратился к «благовѣрному и христолюбивому, благородному и Богом вѣнчаному, Богом утверженому, въ благочестии всеа вселенныа концих въсиавшему, наипаче же во царих пресвѣтлѣйшему и преславному господарю великому князю Ивану Васильевичю всея Руси», конструкция во царех призвана была подчеркнуть чуждость этого титула Ивану III, подлинный титул которого на тот момент включал три определения – господарь / великий князь / всея Руси443. Впрочем, далее в послании автор называет Москву «царствующим градом», правление великого князя – царствованием, а его самого величает «великим русских стран христьанским царем» и обращается к нему вежливо «Царское Твое Остроумие». Это – череда одного и того же аргумента. Царский титул хана Ахмата останавливал Ивана III от военного сопротивления, и Вассиан наставляет великого князя игнорировать статус врага православного христианства, принять евангельскую миссию «пастыря доброго» и дать отпор узурпатору, «оному окаанному мысленому волку, еже глаголю страшливому Ахмату». Ахмат, губитель христиан и мусульманин («бесерменин»), похваляется на отечество Ивана III («твое отечьство»). Защиту царства Вассиан уподобляет освобождению Израиля Моисеем, Иисусом Навином «и иными». Прежде чем перейти к череде библейских параллелей, которые продолжены историческими образцами и мотивами покаяния, Вассиан заклинает:
Помысли убо, о Велеумный Господарю, от каковы славы и в каково безчестие сводят Твое Величество! И толиким тмам народа погыбшим и церквам Божьим разореным и оскверненым, и кто каменосердечен не въсплачется о сей погыбели! Убойся же и Ты, о Пастырю, не от Твоих ли рук тѣх кровь взыщет Богъ, по пророческому словеси? И гдѣ убо хощещи избѣжати или воцаритися, погубив врученное Ти от Бога стадо?444
Никаких дополнительных ритуалов для признания царского титула, статуса, формул вежливого обращения и царских прерогатив Ивана III в своих владениях архиепископ Вассиан не ищет и не считает их нужными. Хан Ахмат – узурпатор и разоритель христианского царства. Однако слова гдѣ убо хощещи избѣжати или воцаритися говорят о том, что царство не равносильно последней империи. Царь – носитель царства, и его права незыблемы, поскольку он наделен пастырской миссией, а не в силу сакральности или властной сущности земли-отечества или ее народа. Упоминаемые в послании тьмы народа и всенародная молитва – это гибнущие от врагов-иноверцев христиане и молящиеся за православного царя все христиане, а не русские подвластные Ивана III445.
Можно предположить, что ростовский архиепископ Вассиан поддерживает тот круг представлений, который предполагал возвышение великокняжеского титула над царским. Отличием между Москвой и ордынскими юртами в посольских отношениях стал именно великокняжеский титул Ивана III и его наследников. Сулейман Великолепный не титуловал ни Василия III, ни Ивана Грозного царем, но в Москве в переводе его грамоты от марта 1544 г. появилось сближение титулов султана и великого князя, впрочем также позволяющее судить о неготовности московских властей при помощи перевода достигать титульного равенства московского государя верховному правителю Турции:
Салтан Сулейман шах, над цари царь и над короли корол, и великий царь Констянтина-града румелския всея островы и наталийския, сирумскаго и ерусалимского, и Месопотамия, и всея Египецкия и Ефиопския и всего Момория царства моего велѣния. Ивану Василевичю, великому царю московскому и иных многих…446
В делопроизводстве позднее, с 1547 г., принялась формула «царь и великий князь», которая отличала московского правителя от ордынских «царей» и «царевичей». Титулы «царя казанского», «царя астраханского» и «царя Сибирской земли» вытесняли из российской исторической памяти прежде всего ордынское владычество447. Однако и до этого «болгарский» титул великих князей позволял «не замечать» ордынского господства в Поволжье и настаивать на древней принадлежности русским великим князьям Булгара вместе с Нижним Поволжьем (Иван Грозный заявлял даже, что и с Тмутараканью, которую называл предшественницей Астрахани). И на практике более значимым было, что Девлет-Гирей, признавая московского властелина царем, отказывал ему в титулах правителя Казани и Астрахани и не считал московского царя себе ровней: титул хана «Великие Орды великий хан» отсылал к наследию Большой Орды и Орды Чингисхана (Тахт эли, Тахт мемлекети)448.
В отношениях с Ногайской Ордой в ходе борьбы за власть между ее кланами практиковались другие формы превосходства. Ногайские князья обращались к Ивану IV как к наследнику Чингисхана, однако для любых высших правителей Орды из подлинных потомков Чингисхана это обращение было абсурдным. При этом мирза, то есть, по московским меркам и по фактическому положению в степной иерархии, князь, Исмаил в 1555 г. настаивал на своем превосходстве над Иваном IV, не обращая внимания на его царский титул и обращаясь к нему как к младшему брату, призывая признать свое подчиненное положение. Позднее Исмаил закрепился на своем престоле и признал в московском царе «всем татарам государя» (barça tatarning), что приравнивало Ивана Грозного к Девлет-Гирею в глазах Сефевидского Ирана, но не гарантировало ни безграничной власти, ни, тем более, признания московских претензий со стороны самого Крыма. Как отмечает М. В. Моисеев, эта практика ничего не значила и для детей бия Ислама, которые не видели прецедента в суждениях своего отца и поднимали вопрос о равенстве с московским царем снова и снова449.
Идеал «белого царя» (ак-хана) как вольного верховного правителя северного юрта обратился в тюркском источнике конца XVII в. «Книга о Чингисхане» в представление о том, что «Московская орда» была юртом Чаган (Саган)-хана, что позволяло рассматривать Российское государство как одну из орд. Как показывает В. В. Трепавлов, к Петру I бухарский хан Убейдулла в 1703 г. обращался как к полновластному защитнику государства воинственному и доблестному Чаган-хану450.
Не был принят в Москве и византийский сценарий. Венчание внука Ивана III в 1498 г. по византийскому «малому» (цесарскому) чину подчеркивало стремление деда закрепить престолонаследие в России за потомком от своего первого брака, однако никаким образом не превращало его самого в василевса, а, наиболее вероятно, намеренно исключало эту возможность. В задачи Ивана III входило как раз не становиться василевсом – чтобы не вызывать раздоров по поводу византийского наследия в династии Палеологов (она продолжала существовать и формально пресеклась в 1533 г.) или чтобы не унижаться перед партнерами, которые видели в Византии и Палеологах политических лузеров, превративших свое благочестивое царство в «темное и беззаконное»451. Великая княгиня Софья Фоминична и дети великого князя от второго брака так и поняли намерения стареющего монарха, что вызвало длительный династический кризис, завершившийся заточением и гибелью «цесаря» Дмитрия Ивановича (позднее князь А. М. Курбский называл его «боговѣнчанным царем», чтобы тем самым еще сильнее унизить Ивана Грозного)452. Открытым демаршем в адрес византийского наследия было и венчание Ивана IV. Обычно это ритуализованное событие воспринимается в позитивном ряду как деяние, нацеленное на принятие царства. Для своего времени в нем было не меньше не столь очевидных сегодня негативных подтекстов. Возможно, венчание на царство готовил себе еще Василий III, но ему приходилось противостоять уже не только своим братьям, но и памяти о «византийском» эксперименте отца. Для современников византийская обрядность вызывала в памяти венчание Дмитрия Ивановича, что на фоне неразрешимой проблемы престолонаследия вплоть до 1530 г. угрожало перерасти в новый династический кризис453.



