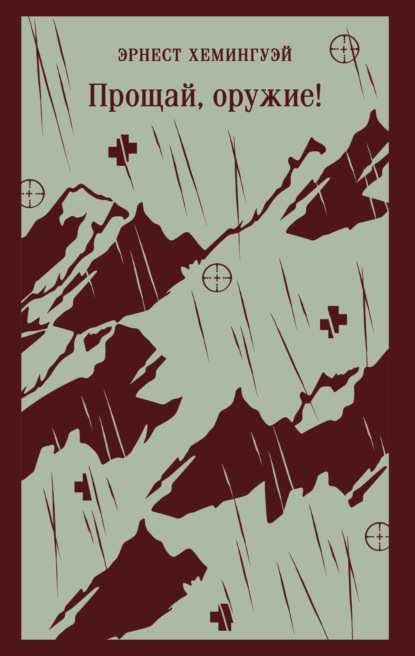
Полная версия:
Прощай, оружие!
– Четырестадвадцатка или миномет, – сказал Гавуцци.
– В горах нет четырестадвадцаток, – сказал я.
– У них есть крупнокалиберные «шкоды». Я видел воронки.
– Значит, это тристапятки.
Мы продолжали есть. Послышался кашель, шипение, как из паровозного котла, и землю снова сотрясло взрывом.
– А блиндаж-то неглубокий, – сказал Пассини.
– И это был окопный миномет.
– Так точно.
Я доел сыр и глотнул вина. Сквозь прочие звуки я различил хлопок, затем чух-чух-чух-чух – потом вспышка, точно распахнули доменную печь, затем все вокруг взревело, сначала белым, потом краснее, краснее и краснее в бушующем вихре. Я пытался вздохнуть, но воздуха не хватало, и я чувствовал, как покидаю собственное тело и лечу, лечу, лечу, подхваченный ветром. Я вылетел быстро, полностью, и знал, что умер и что зря думают, будто смерть – это миг. Я ощутил себя невесомым, но вместо того чтобы лететь дальше, стал падать. Тут я вздохнул и ожил. Земля вокруг была разворочена, а передо мной лежала расщепленная деревянная балка. Чей-то плач отдался у меня болью в висках. Послышался как будто вопль. Я попробовал шевельнуться, но не смог. Я слышал, как у реки с обеих сторон строчат пулеметы и палят винтовки. Раздался громкий всплеск, и я увидел, как в небо взвились осветительные снаряды, расцветая белыми вспышками, и следом полетели ракеты и бомбы, и все это одновременно, а потом услышал, как совсем рядом кто-то причитает: «Mamma Mia! О, Mamma Mia!» Я стал вытягиваться и изгибаться и наконец высвободил ноги, перевернулся и протянул руку. Это был Пассини, и от моего прикосновения он завопил. Он лежал ногами ко мне, и в свете вспышки я разглядел, что обе были раздроблены выше колена. Одной ноги не было, а другая держалась только на сухожилиях и разорванной штанине, и культя подрагивала сама по себе.
– Mamma Mia, Mamma Mia… – стонал, закусив руку, Пассини. – Dio te salve, Maria. Dio te salve, Maria[10]. О господи, пристрелите меня, Христом молю, Mamma Mia, Mamma Mia, о пресвятая Дева Мария, пристрелите меня. Не могу. Не могу. Не могу. О господи, Дева Мария, дай мне умереть.
«Mamma, Mamma Mia…» – продолжал хрипеть он, потом затих, закусив руку, а культя все так же трепыхалась.
Сложив ладони рупором, я закричал:
– Porta feriti! Porta feriti![11]
Я хотел подползти к Пассини, наложить ему жгут или шину, но не мог двинуться с места. Я попробовал еще раз, и ноги чуть-чуть шевельнулись. Зато я смог проползти назад, отталкиваясь локтями. Пассини совсем замолк. Я присел рядом с ним, расстегнул китель и попробовал оторвать кусок от майки. Она не поддавалась, и мне пришлось помогать себе зубами. А потом я вспомнил про обмотки. Я носил шерстяные гетры, но на Пассини были обмотки. Все водители носили обмотки, а у Пассини осталась только одна нога. Я стал разматывать ткань, но на полпути понял, что накладывать жгут нужды нет. Пассини умер. Я проверил и убедился. Оставалось выяснить, где еще трое. Я сел поровнее, и тут у меня в голове будто качнулась гирька, как у куклы, и ударила меня изнутри по глазам. Ногам стало тепло и мокро, и в башмаках стало мокро и тепло. Я понял, что меня тоже задело, и, наклонившись, положил ладонь на колено. Колена не было. Я провел рукой ниже и нащупал коленную чашечку у голени. Я обтер ладонь о майку, и тут в небе медленно-медленно распустился очередной белый цветок, и в его свете я взглянул на свою ногу и очень испугался. О господи, проговорил я, заберите меня отсюда. Однако я помнил, что оставалось еще трое. Всего было четыре водителя. Пассини погиб. Где еще трое?.. Кто-то подхватил меня под мышки и еще кто-то поднял за ноги.
– Там еще трое, – сказал я. – Один погиб.
– Tenente, это я, Маньера. Мы хотели взять носилки, но их не осталось. Как вы?
– Где Гордини и Гавуцци?
– Гордини перевязывают, а Гавуцци держит вас за ноги. Обхватите меня за шею, tenente. Вас сильно приложило?
– По ногам. Как Гордини?
– Жив. Это был окопный миномет.
– Пассини погиб.
– Да. Погиб.
Неподалеку упал очередной снаряд, и шоферы уронили меня на землю и распластались рядом.
– Простите, tenente, – сказал Маньера. – Обхватите меня за шею.
– Только попробуйте снова меня уронить.
– Это мы с перепугу.
– Вы сами-то целы?
– Так, слегка поранило.
– Гордини может сесть за руль?
– Навряд ли.
По пути к перевязочному посту они уронили меня еще раз.
– Ах вы ж сволочи… – сказал я.
– Простите, tenente, – сказал Маньера. – Больше не будем.
В темноте у перевязочного пункта на земле уже лежало много таких же, как я. Раненых вносили внутрь, а затем выносили. Когда отодвигали шторку, я видел горевший внутри свет. Мертвых складывали в стороне. Врачи работали, засучив рукава до плеч, и все были красные, будто мясники. Носилок не хватало. Некоторые из раненых стонали от боли, но большинство лежали тихо. Ветер трепал листья на ветках над дверью, и начинало холодать. Носильщики беспрестанно сновали туда-сюда, опускали носилки, освобождали их и уходили.
Оставив меня у перевязочного пункта, Маньера привел фельдшера, и тот наложил мне повязки на обе ноги. Он сказал, что в рану набилось много грязи, поэтому кровотечения почти нет. Меня примут при первой возможности. После этого он вернулся внутрь. Гордини, сказал Маньера, не может сесть за руль. Ему раздробило плечо, и у него сотрясение. Поначалу он не чувствовал боли, но теперь рука отнялась. Он сидел, привалившись спиной к кирпичной стенке. Маньера и Гавуцци загрузили каждый по полной машине раненых и уехали. Они могли сидеть за рулем. Прибыли три британских фургона, по два санитара в каждом. Один из их шоферов подошел ко мне, его привел Гордини, который был очень бледен и выглядел неважно. Британец наклонился ко мне и спросил:
– Вы тяжело ранены?
Он был высокого роста и в стальных очках.
– По ногам.
– Надеюсь, ничего серьезного. Хотите сигарету?
– Не откажусь.
– Говорят, вы потеряли двух шоферов?
– Да. Один погиб, другой – тот, что вас привел.
– Паскудство. Вы не против, если мы возьмем машины?
– Как раз сам хотел вас об этом просить.
– Мы будем с ними аккуратны и вернем в целости. Вы ведь из двести шестой?
– Да.
– Прекрасное место. Я вас, кстати, там видал. Мне сказали, что вы американец.
– Верно.
– А я англичанин.
– Не может быть!
– Да, англичанин. А вы приняли меня за итальянца? В одном из наших подразделений и правда служат итальянцы.
– Берите машины, даже не раздумывайте, – сказал я.
– Вернем в лучшем виде, – повторил он, выпрямляясь. – Ваш парень очень хотел, чтобы я с вами поговорил.
Он похлопал Гордини по плечу. Тот поморщился от боли, но улыбнулся. Англичанин бегло и чисто заговорил по-итальянски:
– Все, договорились. Я поговорил с твоим tenente. Две машины мы заберем. Можешь расслабиться. – Он развернулся, чтобы уйти. – Я придумаю, как вас отсюда забрать. Разыщу кого-нибудь из эскулапов. Мы вывезем вас отсюда.
Осторожно переступая через раненых, он пошел к перевязочному пункту. Я увидел, как он откидывает шторку, выпуская наружу свет, и скрывается внутри.
– Он позаботится о вас, tenente, – сказал Гордини.
– Ты как, Франко?
– Жить буду.
Он присел рядом со мной. Через мгновение шторка на входе снова откинулась, и из блиндажа вышли двое носильщиков, а за ними высокий англичанин. Он подвел санитаров ко мне.
– Вот американский tenente, – сказал он по-итальянски.
– Я могу потерпеть, – сказал я. – Тут есть более тяжело раненные. Я в порядке.
– Ладно, ладно, – сказал он, – погеройствовали, и хватит. – И добавил, перейдя на итальянский: – Поднимайте его, но аккуратнее с ногами. Они очень болят. А это родной сын президента Вильсона.
Санитары подняли меня и внесли на перевязочный пункт. Все операционные столы внутри были заняты. Невысокий главный врач посмотрел на нас свирепым взглядом. Признав меня, он махнул щипцами.
– Ça va bien?
– Ça va[12].
– Это я его принес, – сказал высокий англичанин по-итальянски. – Единственный сын американского посла. Пусть полежит здесь, пока кто-нибудь не освободится. Потом я заберу его с первой же машиной. – Наклонившись ко мне, он добавил: – Попрошу ассистента пока заполнить ваши бумаги, чтобы дело пошло быстрее.
Пригнувшись, он вышел на улицу. Главный врач разнял щипцы и бросил в таз. Я следил за его руками. Вот он наложил повязку. Потом носильщики забрали раненого со стола.
– Давайте мне американского tenente, – сказал один из врачей.
Меня переложили на стол. Он был жесткий и скользкий. Сильно и резко пахло химией в смеси со сладковатым запахом крови. С меня сняли штаны, и врач приступил к работе, диктуя фельдшеру-ассистенту:
– Множественные поверхностные раны на левом и правом бедре, левом и правом колене, на правой ступне. Глубокие раны на правом колене и правой ступне. Рваные раны на голове (он вставил зонд: «Больно?» – «Да, черт возьми!»), возможна трещина в черепе. Ранен при исполнении. Это чтобы вас не отдали под трибунал за членовредительство, – пояснил он. – Хотите глоток коньяку? Как вас вообще угораздило? Что вы делали? Жить надоело? Дайте мне противостолбнячную сыворотку и пометьте крестом обе ноги. Спасибо. Я сейчас почищу и промою, потом наложу повязку. Крови мало, свертываемость прекрасная.
Ассистент, отрываясь от записей:
– Чем нанесены ранения?
Врач:
– Чем в вас попало?
Я, зажмурившись:
– Миной от окопного миномета.
Капитан, больно копаясь в ранах и разрезая ткани:
– Уверены?
Я, стараясь не дергаться и чувствуя, как подводит желудок, когда скальпель проходит в тело:
– Думаю, да.
Капитан, заинтересовавшись какой-то находкой:
– Осколки неприятельской мины. Если хотите, могу еще пройтись зондом, но это необязательно. Теперь я помажу и… Жжет? Ничего, дальше будет хуже. Это еще не настоящая боль. Подайте ему стакан коньяку. Пока шок притупляет боль, но бояться нечего. Главное, чтобы не загноилось, но сейчас это редко. Как голова?
– Ах ты черт! – сказал я.
– Тогда на коньяк лучше не налегать. Если у вас правда трещина, то может начаться воспаление, а это ни к чему. Так больно?
Меня всего прошиб пот.
– Ах ты черт! – сказал я.
– Да, по-видимому, трещина все-таки есть. Я сейчас забинтую, пожалуйста, не вертите головой. – Быстрыми и уверенными движениями он наложил тугую повязку. – Ну вот и все. Всего доброго и Vive la France[13].
– Он американец, – сказал другой врач.
– Так вы же вроде сказали – француз. Он и говорит по-французски, – сказал мой врач. – Я же его знаю. И всегда думал, что он француз. – Он выпил полстопки коньяку. – Ну, давайте кого-нибудь потяжелее. И принесите еще противостолбнячной сыворотки.
Врач махнул рукой в мою сторону. Меня подняли и вынесли, открыв моей головой шторку. Снаружи возле меня присел фельдшер-ассистент и негромко спрашивал: «Фамилия? Имя? Звание? Место рождения? Должность? Часть?» – и так далее.
– Берегите голову, tenente, – сказал он. – Желаю скорейшего выздоровления. Сейчас вас заберет английская санчасть.
– Все хорошо, – сказал я. – Большое спасибо.
Уже начала подступать боль, о которой предупреждал врач, и все вокруг сразу потеряло для меня всякий смысл и значение. Через какое-то время подъехал английский фургон, меня переложили на носилки и сунули в кузов. Рядом лежали еще носилки с раненым, из бинтов торчал только желтоватый, блестящий от пота нос. Человек очень тяжело дышал. Еще пару носилок погрузили на лямки наверху. Затем внутрь заглянул высокий шофер.
– Я поеду потихоньку, – сказал он. – Надеюсь, вас не растрясет.
Я почувствовал, как завелся мотор, как шофер сел за руль, как отпустил ручник и выжал сцепление, и мы тронулись. Я лежал неподвижно и полностью отдался боли.
Фургон медленно полз по запруженной дороге, иногда останавливался, иногда сдавал назад на поворотах, а в гору поехал быстро. Я почувствовал, как на меня что-то капает. Сначала отдельные капли, затем полилось струйкой. Я окрикнул водителя. Он остановил машину и выглянул в окошко сзади кабины.
– Что такое?
– У человека надо мной кровотечение.
– Потерпите, скоро доедем до перевала. Я все равно один носилки не стащу.
Он снова тронулся. Струйка все лилась. В темноте я не видел, в каком месте она просачивалась сквозь брезент. Я попытался отодвинуться, чтобы на меня не попадало. Там, где затекло под майку, было тепло и липко. Я озяб, а нога болела так сильно, что меня тошнило. Немного погодя струйка уменьшилась, снова падали только отдельные капли, и я почувствовал, как гамак надо мной шевелится, будто лежащий на нем устраивается поудобнее.
– Как он там? – окликнул меня англичанин. – Почти доехали.
– Умер, похоже, – ответил я.
Капли падали медленно, как с подтаявшей сосульки в тени. В машине стоял ночной холод, дорога забирала вверх. На посту носилки надо мной вытащили, поставили другие, и мы поехали дальше.
Глава 10
В полевом госпитале сказали, что после обеда ко мне придет посетитель. День был жаркий, и в палате кружили мухи. Мой вестовой отрезал несколько полос бумаги и привязал их к палке, соорудив своеобразное опахало, чтобы разгонять мух. Те разлетались и садились на потолок. Когда вестовой перестал махать и заснул, мухи снова стали кружиться надо мной, и я пытался дуть на них, чтобы прогнать, но утомился, прикрыл лицо руками и тоже заснул. Было очень жарко, и, когда я проснулся, у меня чесались ноги. Я разбудил вестового, и тот полил на повязки минеральной воды. Койка подо мной стала влажной и холодной. Другие раненые, кто не спал, переговаривались между собой. После обеда наступало затишье. По утрам был обход: трое медбратьев и врач подходили к каждому по очереди, поднимали и переносили в перевязочную на перебинтовку, а в это время меняли постель. Походы в перевязочную нельзя было назвать приятными, и лишь позднее я узнал, что постель можно перестелить, не убирая человека из койки. Вестовой закончил поливать простыню водой, и стало хорошо и прохладно, и я говорил, где мне почесать пятки, и тут врачи привели Ринальди. Он стремительно подошел ко мне, наклонился и поцеловал. Я заметил на его руках перчатки.
– Как ты, малыш? Как самочувствие? Я принес тебе это… – Он достал бутылку коньяка. Вестовой подставил ему стул, и Ринальди сел. – …и хорошие новости. Тебя наградят. Тебе хотят дать medaglia d’argento[14], хотя, вероятно, ограничатся бронзой.
– За что?
– За твое тяжелое ранение. Говорят, если выяснится, что ты совершил подвиг, то дадут серебро. А иначе – бронзу. Расскажи все подробно. Ты совершил какой-нибудь подвиг?
– Нет, – сказал я. – Нас накрыло, когда мы ели сыр.
– Не паясничай. Ты наверняка совершил что-нибудь героическое либо до того, либо после. Ну же, припоминай.
– Ничего я не совершал.
– Может, ты вытащил кого-нибудь на себе? Гордини говорит, ты перенес на плечах несколько человек, но старший врач первого поста утверждает, что это невозможно. А подписать представление к награде должен он.
– Никого не выносил. Я не мог даже пошевелиться.
– Это неважно, – сказал Ринальди и снял перчатки. – Думаю, мы добьемся для тебя серебра. Может, ты требовал, чтобы сначала оказали помощь другим?
– Не то чтобы настойчиво.
– Неважно. Ведь как тебя ранило? Не ты ли героически просил отправить тебя на передовую? Кроме того, операция прошла успешно.
– Значит, реку удалось форсировать?
– Еще как удалось. Взяли чуть ли не тысячу пленных. Так пишут в сводке. Ты не читал?
– Нет.
– Я принесу, взглянешь. Это был блестящий coup de main[15].
– Ну а как дела в целом?
– Прекрасно. У всех все прекрасно. Все тобой гордятся. Расскажи подробно, как все было. Я убежден, что тебе дадут серебро. Ну же, рассказывай. Я весь внимание. – Он помолчал, задумавшись. – Тебе, может, еще и английскую медаль дадут. Там же был англичанин. Схожу к нему, спрошу, рекомендует ли он представить тебя к награде. Он наверняка замолвит за тебя словечко… Болит сильно? Надо выпить. Вестовой, принеси штопор. Ты бы видел, как я удалил три метра тонкой кишки – просто блеск. Прямо материал для «Ланцета». Ты переведешь, и я пошлю. С каждым днем я становлюсь только лучше. Бедный мой малыш, как ты себя чувствуешь? Ты такой бравый и спокойный, что я даже забыл о твоем ранении. Где же чертов штопор?
Он шлепнул перчатками о край койки.
– Вот штопор, signor tenente, – сказал вестовой.
– Открой бутылку. И стакан принеси. Вот, выпей, малыш. Как твоя голова? Я изучил твою карту. Трещины нет. Тот врач на первом посту просто коновал. Я бы так подлатал, ты бы даже от боли ни разу не вскрикнул. Я никому не делаю больно. У меня техника такая. Каждый день я учусь работать лучше и аккуратнее. Прости, малыш, что-то я все говорю и говорю. Мне горестно видеть тебя в таком состоянии. Вот, выпей. Хороший коньяк. Пятнадцать лир бутылка. Должен быть хорошим. Пять звездочек. От тебя я сразу пойду к тому англичанину, и он выбьет тебе английскую медаль.
– Их так просто не раздают.
– Ты скромничаешь. Я отправлю к нему связного, он умеет договариваться с англичанами.
– Ты не видел мисс Баркли?
– Я приведу ее к тебе. Сейчас же пойду и приведу.
– Останься, – сказал я. – Расскажи про Горицию. Как девочки?
– Нет больше девочек. Их не сменяли уже две недели. Я больше туда не хожу. Бардак какой-то. Это уже не девочки, а старые боевые товарищи.
– Что, совсем не ходишь?
– Так, заглядываю узнать, нет ли чего нового. Мимоходом. Все расспрашивают про тебя. Бардак, их держат тут так долго, что они превращаются в подруг.
– Может, девочки больше не рвутся на фронт?
– Еще как рвутся. Девочек завались. Просто организация ни к черту. Придерживают их для тыловых крыс.
– Бедняга Ринальди, – сказал я. – Кругом война, а он один-одинешенек, и даже девочек новых нет.
Ринальди плеснул себе коньяку.
– Выпей, малыш. Уверен, тебе не повредит.
Я выпил коньяк, и по моим внутренностям разлилось тепло. Ринальди налил еще стакан. Он немного успокоился.
– За твои героические ранения. – Он поднял стакан. – И за серебряную медаль. Скажи, малыш, тебя не бесит вот так вот лежать сутки напролет в духоте?
– Иногда.
– Не представляю, как можно так лежать. Я бы свихнулся.
– Так ты уже.
– Поскорее бы ты выписался. Не с кем возвращаться после ночных похождений. Некого дразнить. Не у кого занять денег. Нет моего соседа и названного брата. Как же тебя угораздило получить ранение?
– Дразни капеллана.
– Капеллана! Над ним потешаюсь не я, а капитан. А мне он нравится. Если тебе понадобится священник, пусть будет он. Он, кстати, собирается к тебе, очень готовится.
– Мне он нравится.
– А я знаю. Иногда мне кажется, что вы с ним немного того… Ну, ты понял.
– Ты в своем уме?
– Ну правда, иногда вы двое напоминаете тех бойцов из первого полка бригады «Анкона»…
– Иди-ка ты к черту.
Ринальди поднялся и надел перчатки.
– Да ладно тебе, малыш, я же дразню тебя. Неважно, что у тебя капеллан и англичанка, внутри ты совсем как я.
– Вовсе нет.
– А вот и да. Ты настоящий итальянец. Весь пылаешь и дымишься, а внутри ничего. Ты лишь прикидываешься американцем. Мы – братья, и мы любим друг друга.
– Береги себя в мое отсутствие, – сказал я.
– Я пришлю мисс Баркли. Тебе с ней лучше, чем со мной. Ты становишься чище и нежнее.
– Да ну тебя!
– Я ее пришлю. Твою прекрасную ледяную богиню. Английскую богиню. Господи, зачем такая женщина? Молиться на нее разве. На что еще эти англичанки годятся?
– Ты просто невежественный брехливый макаронник.
– Кто-кто?
– Невежественный итальяшка.
– Итальяшка. Сам ты итальяшка… с мороженой рожей.
– Невежественный. Тупой. – Я заметил, что это слово его задело, и продолжил: – Бескультурный. Безграмотный. Безграмотный тупица.
– Вот как? Тогда вот что я тебе скажу про твоих благочестивых девочек. Про твоих богинь. Есть лишь одно отличие между благочестивой девушкой и женщиной. Когда берешь девушку, ей больно. Вот и все. – Он шлепнул перчаткой по койке. – И еще с девушкой не поймешь, понравится ей или нет.
– Не сердись.
– Я и не сержусь. Просто предупреждаю тебя, малыш, ради твоей же пользы. Потом сам же спасибо скажешь.
– И все, других отличий нет?
– Нет. Но миллионы кретинов вроде тебя не в курсе.
– Что ж, спасибо за науку.
– Не будем ссориться. Я слишком тебя люблю. Но не будь дураком.
– Хорошо, буду умным, как ты.
– Не сердись, малыш. Лучше веселись. Выпей. А сейчас мне пора.
– Ты все-таки хороший друг, старина.
– Вот видишь. Внутри мы одинаковы. Война нас породнила. Поцелуй меня на прощание.
– Ты слюнтяй.
– Нет. Просто более пылкий.
Я почувствовал на себе его дыхание.
– До свидания. Я скоро опять зайду. – Он отодвинулся. – Ладно, не хочешь целоваться, не надо. Пришлю к тебе твою англичанку. До свидания, малыш. Коньяк под кроватью. Поправляйся.
И он ушел.
Глава 11
Капеллан пришел, когда уже смеркалось. Перед этим давали суп, потом посуду унесли, и я лежал, глядя на ряды коек и на верхушку дерева за окном, слегка покачивающуюся от вечернего ветерка. Ветерок задувал в окно, и в палате стало прохладнее. Мухи облепили потолок и электрические лампочки на шнурах. Свет включали, только если ночью привозили раненого или делали что-нибудь в палате. Оттого что после сумерек наступала темнота и до утра не светлело, я чувствовал себя как в детстве, словно меня после раннего ужина укладывают спать. Вестовой прошел между коек и остановился. С ним кто-то был. Капеллан. Он стоял, невысокий, загорелый и смущенный.
– Как вы себя чувствуете? – спросил он и положил на пол какие-то свертки.
– Хорошо, отец мой.
Он присел на стул, который приносили для Ринальди, и смущенно поглядел в окно. Я заметил, что у него очень усталый вид.
– Я всего на минуту, – сказал он. – Уже поздно.
– Еще не поздно. Как дела в части?
Он улыбнулся.
– Потешаются надо мной по-прежнему. Слава богу, все живы.
Голос у него тоже был усталый.
– Я так рад, что вы тоже живы, – сказал он. – Вам ведь не очень больно?
Он выглядел очень усталым, и я не привык видеть его таким.
– Уже нет.
– Без вас очень скучно за столом.
– Я и сам скучаю. Мне всегда нравились наши беседы.
– Я вам тут кое-что принес, – сказал он и подобрал свертки. – Вот москитная сетка. Вот бутылка вермута. Вы ведь любите вермут? А вот английские газеты.
– Разверните их, пожалуйста.
Он обрадованно улыбнулся и стал открывать посылки. Я принял у него москитную сетку. Затем он покрутил бутылку вермута и поставил на пол у койки. Я взял газету из пачки. Поднеся ее под слабый свет из окна, я смог прочитать заголовки. Это была News of the World[16].
– Остальное – иллюстрированные листки, – сказал он.
– С удовольствием всё прочту. Где же вы их достали?
– Выписал из Местре. Потом раздобуду еще.
– Я так рад, что вы пришли, отец мой. Не желаете стаканчик вермута?
– Благодарю, но нет. Это вам.
– И все же, по стаканчику.
– Ну хорошо. В следующий раз принесу еще.
Вестовой принес стаканы и откупорил бутылку. Пробка обломилась, и нижнюю половину пришлось затолкать в бутылку. Капеллан явно расстроился, но сказал:
– Ничего страшного. Бывает.
– За ваше здоровье, отец мой.
– За вашу поправку.
Он так и остался сидеть, держа стакан на весу, и мы смотрели друг на друга. Иногда мы беседовали легко и непринужденно, как закадычные друзья, но сегодня разговор не клеился.
– Что с вами, святой отец? У вас очень усталый вид.
– Я устал, но не имею права жаловаться.
– Все из-за жары.
– Нет. Еще только весна. У меня тяжело на душе.
– Вас тяготит война?
– Нет. Но я ее ненавижу.
– Я тоже не нахожу в ней удовольствия, – сказал я.
Он покачал головой и посмотрел в окно.
– Но вы не против нее. Вы ее не замечаете… Простите. Я знаю, вы ранены.
– Это была случайность.
– Но даже после ранения вы все равно ее не видите. Это заметно. Я сам ее не вижу, однако немного чувствую.
– Перед тем как меня ранило, мы говорили как раз об этом. Пассини говорил.
Капеллан отставил стакан в сторону. Его мысли блуждали где-то еще.
– Я понимаю их, потому что сам такой же, – сказал он.
– Нет, вы все-таки другой.
– Нет, на самом деле такой же.
– Офицеры ничего не видят.
– Не все. Есть отдельные чуткие натуры, и им хуже, чем любому из нас.
– Это совсем особенные люди.
– Дело не в образовании и не в деньгах. Здесь другое. Даже будь у людей вроде Пассини образование и деньги, они бы не захотели быть офицерами. Я бы не хотел быть офицером.

