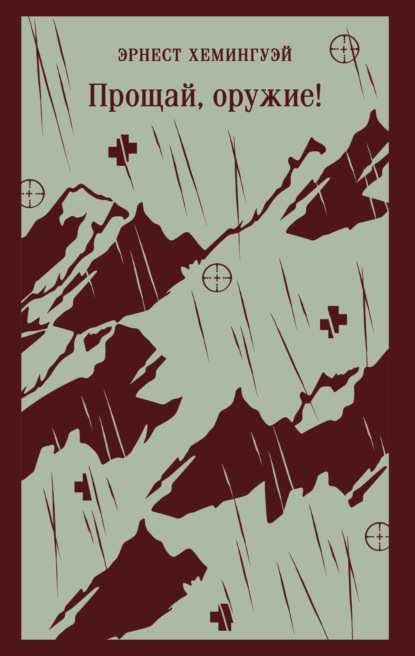
Полная версия:
Прощай, оружие!
Солнце уже садилось, и дневная жара спадала. После ужина я пойду навестить Кэтрин Баркли. Вот бы она была сейчас здесь. Вот бы мы с ней сейчас были в Милане. Мы бы поели в кафе «Кова», а потом в душном вечернем воздухе прогулялись по виа Манцони, а потом перешли бы мост и пошли вдоль канала в гостиницу. Возможно, Кэтрин Баркли согласилась бы. Может, она сделала бы вид, что я и есть тот самый убитый юноша, и вот мы входим в вестибюль, швейцар снимает фуражку, я подхожу к столу консьержа и прошу ключ, а она ждет у лифта; потом мы поднимаемся – медленно, ведь лифт отсчитывает каждый этаж, – и вот наш этаж: мальчик-лифтер открывает дверь и стоит, пропуская нас, она выходит, за ней я, и мы идем по коридору, и я вставляю ключ в дверь, открываю, вхожу, а внутри снимаю трубку и прошу прислать бутылку капри бьянка в серебряном ведерке со льдом, и вскоре за дверью уже позвякивает лед в ведерке, потом раздается стук в дверь, и я велю оставить все снаружи – потому что мы уже без одежды, ведь такая жара, и окно открыто, и над крышами домов носятся ласточки, а затем, когда стемнеет, за окном над домами и в листве деревьев охотятся крохотные летучие мыши, а мы сидим и пьем капри, и дверь заперта, и очень душно, и на кровати только простыня, и всю ночь – всю ночь напролет мы любим друг друга в знойной темноте Милана… Да, хорошо бы так. Так что я быстро поем и отправлюсь повидать Кэтрин Баркли.
В столовой говорили все и сразу, а я пил вино, потому что ты не свой, если хотя бы чуть-чуть не выпьешь, и говорил с капелланом об архиепископе Айрлэнде – добродетельном как будто человеке, о чьих злоключениях, к которым я был причастен как американец, я ни разу не слышал, но делал вид, что знаю. Было бы невежливо выказать неведение, слушая подробнейшее изложение причин этих злоключений, которые, насколько я понял, сводились к банальному недоразумению. Да еще и фамилия такая, что постоянно хочется назвать его Ирландия, и самое замечательное, что он из Миннесоты. Вслушайтесь: Ирландия Миннесотская, Ирландия Висконсинская, Ирландия Мичиганская… Впрочем, дело не только в этом. Да, отче. Очень верно, отче. Вероятно, отче. Нет, отче. Ну, возможно, и так, отче. Вы лучше меня в этом разбираетесь, отче. Капеллан был приятным собеседником, но скучным. Офицеры были так себе и тоже скучны. Король был хорошим, но скучным. Вот вино было плохое, но не такое скучное. Оно сдирало эмаль с зубов и оставляло ее на нёбе.
– И потом священника засадили, – рассказывал Рокка, – потому что при нем нашли трехпроцентные облигации. Дело было, конечно, во Франции. Здесь бы его даже не арестовали. Он утверждал, что и знать не знает про пятипроцентные займы. Это было в Безье. Я был там и, прочитав о деле в газете, пошел в тюрьму и попросил встречи со священником. Не было никакого сомнения, что облигации он украл.
– Не верю ни одному слову, – сказал Ринальди.
– Как угодно, – сказал Рокка. – Но я рассказываю историю для нашего капеллана. Она весьма поучительна. Он тоже священник, он оценит.
Капеллан улыбнулся и кивнул:
– Продолжайте. Я слушаю.
– Конечно, не все облигации нашли, но все трехпроцентные были у священника, и еще какие-то облигации местного займа – не помню точно какие. И вот, самая соль истории: я прихожу в тюрьму, подхожу к его камере и говорю, как в исповедальне: «Благословите меня, отец мой, ибо вы согрешили».
Все слушатели оглушительно захохотали.
– А он что? – спросил капеллан.
Рокка пропустил вопрос мимо ушей и принялся объяснять мне шутку:
– Вы ведь поняли, в чем соль?
По-видимому, шутка была очень смешная, если ее как следует понять.
Мне подлили еще вина, и я рассказал анекдот про английского рядового, которого поставили под душ. Потом майор рассказал об одиннадцати чехословаках и венгре-капрале. Выпив еще вина, я рассказал анекдот про жокея, который нашел пенни. Майор заметил, что у итальянцев есть похожий анекдот, только про герцогиню, которая не могла уснуть. Тут капеллан ушел, и я рассказал анекдот про коммивояжера, который приехал в пять утра в Марсель, когда дул мистраль. Майор сообщил, что ему рапортовали, будто я умею пить. Я все отрицал. Он сказал, что это правда и что, Бахус свидетель, он проверит, правда ли это. Не Бахус, сказал я, только не Бахус. Как раз Бахус, сказал майор. Я должен был пить с Басси Филлипо Винченца: он стакан, и я стакан, он бокал, и я бокал. Басси заявил, что так не пойдет, ведь он уже выпил вдвое больше меня. Я заявил, что это наглая ложь: Бахус там или не Бахус, а Филлипо Винченца Басси – или Басси Филлипо Винченца – за весь вечер не проглотил ни капли, и вообще, как его звать? Он спросил, а как меня зовут: Фредерико Энрико или Энрико Федерико? Я сказал: да победит сильнейший, и к черту Бахуса, и майор поставил перед нами по кружке с красным вином. Выпив половину, я решил, что с меня хватит. Я вспомнил, куда собирался.
– Ладно, Басси победил, – сказал я. – Он сильнее. А мне пора.
– Это правда, – подтвердил Ринальди. – У него свидание. Уж я знаю.
– Мне пора.
– Что ж, в другой раз, – сказал Басси. – В другой раз, когда будете готовы.
Он хлопнул меня по плечу. На столе горели свечи. Все офицеры были веселы.
– Доброй ночи, господа, – сказал я.
Ринальди вышел со мной. Мы остановились перед входом, и он сказал:
– Не ходил бы ты туда пьяный.
– Я не пьяный, Ринни. Чесслово.
– Погрызи-ка кофе.
– Отстань.
– Сейчас принесу, щеночек. Ты пока погуляй.
Он скоро вернулся с пригоршней жареных кофейных зерен:
– На, погрызи, щеночек, и с Богом.
– С Бахусом! – сказал я.
– Я тебя провожу.
– Сам дойду.
Мы шли вдвоем по городу, и я грыз кофейные зерна. У ворот британской виллы Ринальди пожелал мне доброй ночи.
– Доброй ночи, – ответил я. – Может, зайдешь?
– Нет. – Он покачал головой. – Мне по душе более простые удовольствия.
– Спасибо за кофе.
– Не за что, щеночек. Не за что.
Я пошел по подъездной аллее. Вдоль нее тянулись стройные и четкие силуэты кипарисов. Оглянувшись, я увидел, что Ринальди смотрит мне вслед, и помахал ему.
Потом я сидел в приемном покое, дожидаясь, пока спустится Кэтрин Баркли. Наконец кто-то показался в коридоре. Я поднялся навстречу, но это была не Кэтрин, а мисс Фергюсон.
– Здравствуйте, – сказала она. – Кэтрин просила передать, что, к сожалению, не сможет сегодня с вами увидеться.
– Очень жаль. Она здорова, надеюсь?
– Не вполне.
– Передадите ей, что мне жаль и пускай поправляется?
– Да, передам.
– А скажите, удобно ли будет зайти завтра?
– Думаю, да.
– Большое вам спасибо, – сказал я. – Доброй ночи.
Я вышел на улицу, и вдруг на меня накатило чувство пустоты и одиночества. Встреча с Кэтрин казалась мне чем-то неважным, я напился и чуть не забыл прийти, а теперь, когда свидание не состоялось, ощущал себя разбитым и брошенным.
Глава 8
На следующий день нам сообщили, что ночью будет атака и что там нужны четыре машины. Никто ничего толком не знал, но все с уверенным видом делились своими стратегическими соображениями. Я ехал в первой машине и, когда мы проезжали мимо британского госпиталя, велел шоферу остановиться. Остальные за нами тоже затормозили. Я вышел и махнул шоферам, чтобы ехали дальше и ждали на перекрестке у дороги на Кормонс, если мы не догоним их раньше. Я торопливо пересек аллею и, войдя в приемную, попросил позвать мисс Баркли.
– Она на дежурстве.
– Могу я повидать ее всего на одну минуту?
Послали санитара узнать, и тот вскоре ее привел.
– Я зашел справиться, стало ли вам лучше. Мне сказали, что вы на дежурстве, но я все равно попросил вас позвать.
– Со мной все хорошо, – сказала она. – Вчера, наверное, был тепловой удар.
– Что ж, мне пора.
– Я выйду с вами ненадолго.
– С тобой точно все хорошо? – спросил я уже на улице.
– Да, милый. Сегодня придешь?
– Нет. Я сейчас уезжаю; сегодня представление у Плавы.
– Что за представление?
– Да так, ничего особенного.
– А когда вернешься?
– Завтра.
Она что-то расстегнула у себя на шее и вложила мне в ладонь.
– Это святой Антоний, – сказала она. – И завтра вечером обязательно приходи.
– Ты что, католичка?
– Нет. Но святой Антоний, говорят, хороший защитник.
– Ладно, тогда буду беречь его. Прощай.
– Нет, – сказала она, – не надо прощаний.
– Ладно.
– Пожалуйста, береги себя и будь осторожен… Нет, не целуй меня. Здесь нельзя.
– Ладно.
Оглянувшись, я увидел, что она стоит на ступеньках. Она помахала мне, и я послал ей воздушный поцелуй. Она еще махала, но я уже вышел за ворота, залез в машину, и мы тронулись. Образ святого Антония был в маленьком медальоне из белого металла. Я открыл медальон и вытряхнул его на ладонь.
– Святой Антоний? – спросил шофер.
– Да.
– У меня тоже такой есть. – Убрав правую руку с руля, он расстегнул ворот гимнастерки и вытащил медальон. – Видите?
Я сунул своего Антония обратно в медальон, сложил золотую цепочку и убрал в нагрудный карман.
– Что, не наденете?
– Нет.
– Лучше надеть. Иначе зачем он.
– Ладно.
Я расстегнул замок на цепочке, надел ее на шею и снова застегнул. Святой повис поверх моего кителя; я раскрыл ворот, расстегнул рубашку и сунул медальон под нее. Всю дорогу я чувствовал, как металлический футляр упирается мне в грудь. Потом я совсем про него забыл. После ранения я больше его не видел. Наверное, кто-то снял его с меня на перевязочном пункте.
Переправившись через мост, мы поехали быстрее и вскоре увидели впереди поднятую другими машинами пыль. Дорога сделала петлю, и мы увидели эти три машины. Издалека они казались очень маленькими, пыль клубилась у них под колесами и уходила за деревья. Мы поравнялись с ними, обогнали и свернули на другую дорогу, которая шла в гору. Двигаться в колонне неплохо, если едешь в головной машине, и я уселся поудобнее, рассматривая окрестности. Мы были в предгорьях по эту сторону реки, и когда дорога забралась выше, на севере показались высокие горы, на которых до сих пор лежал снег. Я оглянулся: остальные три машины поднимались следом, держась друг за другом так, чтобы пыль от впереди идущей машины не застилала обзор. Мы проехали мимо длинной вереницы груженых мулов; рядом с ними шли погонщики в багряных фесках. Это были берсальеры.
После каравана из мулов на дороге больше никто не попадался, и мы взбирались с холма на холм, а потом по длинному пологому склону спустились в речную долину. Вдоль дороги росли деревья, и справа за ними я увидел реку, неглубокую, прозрачную и быструю. Река обмелела и текла узкими протоками среди песка и гальки, а иногда расстилалась пленкой по галечному дну. Рядом с берегом вода скапливалась глубокими лужами, ярко-голубыми, как небо. Над рекой выгибались каменные мосты, к которым вели тропинки, ответвлявшиеся от дороги, и за ними тянулись каменные крестьянские дома с раскидистыми, будто канделябры, грушевыми деревьями у южной стены и низкие каменные ограды полей. Дорога долго шла по долине, а потом мы свернули и снова стали подниматься. Дорога круто забирала вверх, извиваясь в каштановой роще, пока наконец не пошла вдоль гребня. В просветах между деревьями, далеко внизу, блестела на солнце полоса реки, разделявшей две армии. Мы ехали по каменистой новой военной дороге, проложенной по самому гребню, и я смотрел на север, где тянулись два горных хребта, буро-зеленые до снеговой линии, а выше – белые и ярко сияющие на солнце. Затем, когда дорога снова пошла вверх, показался третий хребет – еще более высокий и заснеженный, белый, как мел, и изрезанный причудливыми бороздами, а совсем далеко за ними маячили еще горы – трудно было сказать, всамделишные или нет. То были горы австрийцев, у нас таких не было. Впереди показался закругленный съезд направо, и дорога резко пошла вниз между деревьями. По этой дороге двигались войска, и грузовики, и мулы с горными орудиями, и когда мы ехали, держась обочины, я видел далеко внизу реку, бегущие вдоль нее рельсы и шпалы, старый мост, по которому железная дорога уходила на другой берег и ныряла под гору, и разрушенные дома городка, который нам предстояло взять.
Уже почти стемнело, когда мы спустились и свернули на главную дорогу, что шла вдоль реки.
Глава 9
Дорога была запружена, и по обе стороны стояли щиты из кукурузных и соломенных циновок, и циновки были накинуты сверху, и все это напоминало вход в шапито или деревню аборигенов. Мы медленно ехали по соломенному тоннелю и выехали на голое, расчищенное место, где прежде была железнодорожная станция. Дорога шла ниже береговой насыпи, и в насыпи были вырыты укрытия для пехоты. Солнце уже садилось, и, выглянув над насыпью, я заметил на той стороне над холмами силуэты австрийских наблюдательных аэростатов – черные на фоне заката. Мы поставили фургоны за развалинами кирпичного завода. Ямы и котлованы печей были оборудованы под перевязочные пункты. Там работали трое знакомых мне врачей. Главный врач сказал, что, когда все начнется и к нам станут грузить раненых, мы поедем по укрытому тоннелю к основной дороге, где будет устроен распределительный пункт, и раненых перегрузят на другие машины. Только бы не случилось затора. Дорога была всего одна. Ее замаскировали, потому что она просматривается с австрийского берега. Здесь, на кирпичном заводе, от винтовок и пулеметов нас защищала насыпь. Мост через реку был разрушен. Когда начнется артобстрел, наведут другой, а часть войск перейдет реку вброд за излучиной, где мелко. Главный врач был невысокого роста, с подкрученными вверх усами. Он воевал в Ливии и там заработал два знака за ранения. Он сказал, что если все пройдет успешно, то подпишет для меня представление к награде. Я тоже выразил надежду на успешный исход, но награду считал излишней. Я спросил, нет ли где просторного блиндажа для шоферов, и майор выделил мне одного солдата в провожатые. Тот привел меня в блиндаж, который оказался очень удобным. Шоферы были довольны, и я оставил их там. Главный врач предложил выпить с ним и еще двумя офицерами. Мы выпили рому, и обстановка сразу стала очень дружеской.
Тем временем смеркалось. Я спросил, на который час назначено наступление, и мне ответили, что как только стемнеет. Я вернулся к шоферам. Они сидели в блиндаже и разговаривали, но при моем появлении замолчали. Я раздал каждому по пачке «Македонии» – неплотно набитых сигарет, из которых высыпался табак, и нужно было закрутить концы, прежде чем закуривать. Маньера чиркнул зажигалкой и передал ее по кругу. Зажигалка напоминала формой радиатор «фиата». Я пересказал то, что услышал.
– А почему мы не видели распределительный пост? – спросил Пассини.
– Он был как раз за съездом, где мы свернули.
– На дороге будет форменный бардак, – сказал Маньера.
– Нас… расстреляют как нечего делать.
– Скорее всего.
– А что по еде, лейтенант? Когда все начнется, будет не до кормежки.
– Сейчас схожу узнаю, – сказал я.
– Нам сидеть тут или можно осмотреться?
– Лучше сидите.
Я вернулся в блиндаж к главному врачу. Он сказал, что полевая кухня скоро прибудет и шоферы смогут прийти за своей порцией похлебки. Если котелков нет, он выдаст им запасные. Я сказал, что котелки, скорее всего, есть. Вернувшись к шоферам, я сказал им, что позову, как только приедет еда. Маньера сказал, что хорошо бы ее привезли до обстрела. До моего ухода они молчали. Все они были простые механики и ненавидели войну.
Я сходил проверить машины и осмотреться, а потом вернулся в блиндаж к шоферам. Мы все сидели на земле, прислонившись к стенке, и курили. Снаружи почти совсем стемнело. Земля была теплая и сухая, я привалился к стене всей спиной, устроившись на копчике, и расслабился.
– Кто идет в атаку? – спросил Гавуцци.
– Берсальеры.
– Только берсальеры?
– Кажется, да.
– Для настоящей атаки здесь мало солдат.
– Потому что настоящее наступление, видимо, будет в другом месте.
– А те, кто пойдет в атаку, об этом знают?
– Навряд ли.
– Конечно, не знают, – сказал Маньера. – Если б знали, не пошли бы.
– Еще как пошли бы, – сказал Пассини. – Берсальеры те еще кретины.
– Они храбрые и хорошо дисциплинированны, – сказал я.
– Они здоровые и широкоплечие, но все равно кретины.
– А гренадеры к тому же еще высокие, – сказал Маньера.
Это была шутка. Все засмеялись.
– А вы были, tenente, когда они отказались идти в бой и каждого десятого расстреляли?
– Нет.
– Вот, было такое. Их выстроили и каждого десятого отвели на расстрел к карабинерам.
– Карабинеры… – Пассини сплюнул на землю. – Но гренадеры-то: высоченные, и отказались идти.
– Вот бы все отказались, тогда бы и война кончилась, – сказал Маньера.
– Только гренадеры не потому не пошли. Они струсили. У них все офицеры из благородных семей.
– Некоторые офицеры пошли в бой одни.
– А двоих, которые не хотели идти, застрелил сержант.
– Но кто-то же пошел.
– Тех, кто пошел, потом не выстраивали и каждого десятого не забирали.
– Одного моего земляка так расстреляли, – сказал Пассини. – Высокий такой, плечистый, статный, как раз для гренадеров. Вечно в Риме. Вечно с девочками. Вечно с карабинерами. – Он усмехнулся. – Теперь у их дома поставили часового со штыком, и никто не смеет навестить его отца, мать, сестер, а отца лишили гражданских прав, и он не может даже голосовать. И закон их больше не защищает. Заходи кто хочешь и бери что хочешь.
– Если б не страх за родных, то никто бы в атаку и не пошел.
– Вот еще. Альпийские стрелки пошли бы. Ардити пошли бы. Да и берсальеры тоже.
– Так ведь и берсальеры драпали. Теперь пытаются это забыть.
– Зря вы разрешаете нам такие разговорчики, tenente. E viva l’esercito[9], – ехидно заметил Пассини.
– Да слышал я все это, и не раз, – сказал я. – Покуда вы сидите за рулем и делаете свое дело…
– …и помалкиваете в присутствии других офицеров, – закончил за меня Маньера.
– Я считаю, что войну нужно довести до конца, – сказал я. – Она не кончится сама по себе, если одна из сторон перестанет сражаться. Если мы сдадимся, будет только хуже.
– Хуже уже не будет, – учтиво возразил Пассини. – Хуже войны ничего нет.
– Поражение куда хуже.
– Вряд ли, – с той же учтивостью сказал Пассини. – Что такое поражение? Ты просто идешь домой.
– А враг идет за тобой. Отбирает дом, уводит сестер.
– Вряд ли, – сказал Пассини. – За каждым не пойдет. Пусть каждый сам защищает свой дом. Пусть не отпускает сестер за дверь.
– Тогда вас повесят. Или снова забреют в солдаты. И не в шоферы санитарной службы, а в пехоту.
– Всех не перевешают.
– Не может чужое государство заставить тебя воевать, – сказал Маньера. – В первом же сражении все разбегутся.
– Как чехи.
– Вы просто не знаете, что значит быть побежденным, потому и не боитесь.
– Tenente, – сказал Пассини. – Вы, помнится, разрешили нам говорить? Ну так слушайте. Нет ничего хуже войны. Мы в санитарных частях даже не представляем всех ее ужасов. А те, кто понимает, насколько все ужасно, ничего не могут поделать, потому что сходят с ума. Есть люди, которые никогда этого не поймут. Есть люди, которые боятся своих офицеров. Вот такими и делается война.
– Я знаю, что война – это плохо, но ее нужно довести до конца.
– У войны не бывает конца.
– Нет, бывает.
Пассини покачал головой.
– Войну победами не выигрывают. Ну возьмем мы Сан-Габриеле. Ну, отвоюем Карсо, Монфальконе и Триест. А дальше что? Видели сегодня все те дальние горы? Думаете, сможем взять и их тоже? Только если австрияки сложат оружие. Одна сторона должна сдаться. Так почему не мы? Если они войдут в Италию, то быстро утомятся, развернутся и уйдут. У них уже есть своя страна. Так нет же, идут войной на других.
– Да ты оратор.
– Ну мы же не крестьяне. Мы механики. Мы думаем. Мы читаем. И даже крестьянам хватает ума не боготворить войну. Всем ненавистна эта война.
– Просто правящий класс – это тупицы, которые никогда ничего не понимали и никогда не поймут. Вот потому мы и воюем.
– А еще они на этом наживаются.
– Многие не наживаются, – сказал Пассини. – Они для этого слишком тупы. Воюют за просто так. Из глупости.
– Всё, хорош, – сказал Маньера. – Что-то мы разговорились, даже для tenente.
– Ничего, ему нравится, – сказал Пассини. – Мы еще обратим его в свою веру.
– Но пока хватит, – сказал Маньера.
– Что же, tenente, скоро обед? – спросил Гавуцци.
– Сейчас узнаю, – сказал я.
Гордини поднялся и вышел вместе со мной.
– Могу я вам чем-то помочь, tenente? Может, поручение какое?
Из всех четверых он был самым тихим.
– Ну пошли, если хочешь, – сказал я. – А там поглядим.
Снаружи совсем стемнело, и было видно, как по склонам блуждают длинные лучи прожекторов. На нашем фронте использовали большие прожекторы, установленные на фургонах, и иногда ночью, проезжая почти у самой передовой, можно было встретить на обочине такой фургон, а рядом офицера, направлявшего прожектор, и перепуганную команду. Мы прошли через заводской двор к главному перевязочному пункту. Над входом был сделан небольшой навес из ветвей, и ночной ветер шуршал высохшей на солнце листвой. Внутри горел свет. Главный врач сидел на ящике у телефона. Один из врачей сказал, что наступление отложили на час, и предложил мне коньяку. Я посмотрел на операционные столы, поблескивающие на свету инструменты, тазы и закупоренные бутылки. Гордини держался у меня за спиной. Главный врач положил трубку и встал.
– Все, начинается, – сказал он. – В итоге решили не откладывать.
Я выглянул наружу; было темно, и по горам шарили австрийские прожектора. Еще мгновение стояла тишина, а затем все орудия позади нас разом начали обстрел.
– Савойя, – сказал главный врач.
– Так что с похлебкой, майор? – спросил я.
Он меня не услышал. Я повторил.
– Еще не привезли.
Во дворе кирпичного завода разорвался большой снаряд. Громыхнуло еще раз, и сквозь шум взрыва можно было расслышать стук сыплющегося кирпича и комьев грязи.
– И что, еды совсем нет?
– Есть немного пустой пасты, – сказал главный врач.
– Давайте что есть.
Главный врач подозвал вестового, тот скрылся в глубине блиндажа и вернулся с металлическим тазом холодных макарон. Я передал таз Гордини.
– А сыр есть?
Главный врач ворчливо обратился к вестовому, тот снова нырнул куда-то и принес четвертину белого сыра.
– Большое спасибо, – сказал я.
– Советую вам остаться здесь.
Снаружи донеслась какая-то возня, что-то опустили на землю. В блиндаж заглянул один из санитаров.
– Чего вы его там положили? Заносите, – сказал главный врач. – Или нам самим выйти и подобрать его?
Санитары подхватили раненого под руки и за ноги и внесли в блиндаж.
– Разрежьте гимнастерку, – велел главный врач.
Он взял щипцы с куском марли. Двое подчиненных врачей сняли шинели.
– Всё, свободны, – сказал главный врач санитарам.
– Пойдем и мы, – сказал я Гордини.
– Лучше обождите, пока обстрел завершится, – не оборачиваясь, сказал главный врач.
– Шоферы голодны, – сказал я.
– Ну как хотите.
Выйдя наружу, мы побежали через заводской двор. Недалеко от береговой насыпи разорвался снаряд. Потом еще один – мы услышали его, только когда он просвистел прямо над головой. Мы с Гордини распластались плашмя, и за вспышкой, ударом, гарью прорезалось жужжание осколков и грохот кирпича. Гордини вскочил и кинулся к блиндажу, я следом, прижимая к себе сыр, весь в налипшей кирпичной крошке. Три шофера по-прежнему сидели в блиндаже, привалившись к стене, и курили.
– Вот, держите, патриоты, – сказал я.
– Как там машины? – спросил Маньера.
– С ними все в порядке.
– Напугались, tenente?
– Чертовски.
Я достал складной ножик, обтер лезвие и счистил грязную корку с сыра. Гавуцци протянул мне таз с макаронами.
– Угощайтесь первым, tenente.
– Нет, – сказал я. – Ставь на землю, будем есть все вместе.
– Так вилок нет.
– Ну и черт с ними, – сказал я по-английски.
Я порезал сыр на куски и выложил поверх пасты.
– Садитесь, – сказал я.
Все сели и стали ждать. Я сунул пальцы в макароны, разворошил слипшуюся массу и потянул.
– Поднимайте повыше, tenente.
Я поднял руку, высвобождая макароны, опустил их в рот, втянул, поймал концы и принялся жевать, после чего откусил кусок сыра, прожевал его и запил все глотком вина. Вино отдавало ржавчиной. Я вернул флягу Пассини.
– Гадость, – сказал он. – Слишком долго пролежало в машине.
Они ели все вместе, наклоняясь над тазом и запрокидывая голову, чтобы всосать макароны. Я зачерпнул еще горсть пасты, откусил сыра, запил вином. Снаружи что-то упало, и земля содрогнулась.

