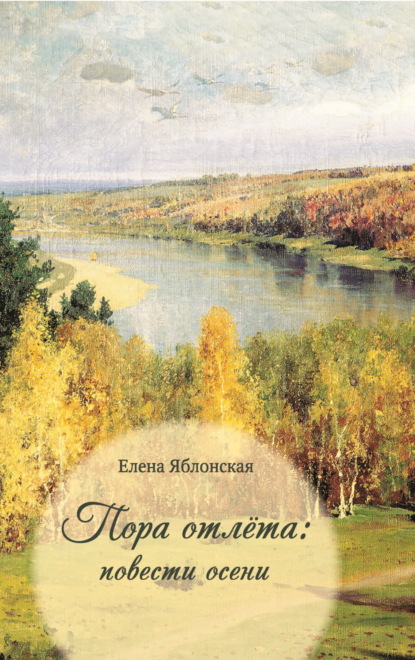
Полная версия:
Пора отлёта: повести осени
За прошедшие семнадцать лет в убранстве первого отдела произошли существенные изменения. В восьмидесятые годы молодые специалисты робко жались к исцарапанным полосатым обоям в крохотной комнатёнке с тремя обтянутыми дерматином стульями и висевшим на стене чёрным аппаратом местного телефона. И стулья, и телефон казались вытащенными из тридцатых годов, не хватало только портрета сами понимаете кого, а Константин Николаевич или его помощница общались с народом через крохотное окошечко в стене. Теперь же обои были заменены белой матовой пластмассой – «сайдингом», отчего казалось, что тебя засадили в холодильник. А я была впущена в самоё «святая святых», оказавшееся просторным помещением с решётчатым оконцем, огромным железным шкафом в углу и совершенно пустым и обширным, как равнина, письменным столом. Я успела подумать: «Вот бы такой стол да к нам в редакцию!» За столом восседал Константин Николаевич с величественным видом египетского фараона или, скорее, каменной скифской «бабы». Он, казалось, совершенно не изменился: те же водянисто-серые глазки, небольшой круглый животик и трогательный белый пушок на лысине. Вот только мясистый утиный нос теперь был покрыт густой сетью красных жилочек – Юра сказал, что Константин Николаевич перенёс инсульт.
Мне было предложено подписать вынутые из железного шкафа, по-моему, те же самые, пожухлые и изрядно пожелтевшие за семнадцать лет, бумаги: «Обязуюсь не разглашать… после общения с иностранными гражданами… обязуюсь… в письменной форме…»
– Да как же это?! – аж задохнулась я. – Меня ведь берут именно для разглашения иностранным гражданам в письменной форме! Переводчиком.
– За это будет нести ответственность ваш завлаб, – смотрит прозрачными глазами Константин Николаевич. – А я не имею права пропустить вас на территорию института, если не подпишете. Готовы ли вы пойти на ограничение ваших прав?
– Ни за что! – с наслаждением отчеканила я, повернулась и вышла.
– Ольга, ну что ты как ребёнок! – сердился Юра «под мостиком». – Это же простая формальность! Да кому сейчас всё это надо…
– А вот как не пустят меня куда-нибудь за границу – и ни ты, ни директор ничего не сможете сделать! А мне в Грецию надо! За шубой!
На этом и закончилось моё знакомство с первым отделом – надеюсь, навсегда. А Николай Александрович всё же, думаю, был из какого-нибудь другого отдела, потому что он был никудышным психологом и иногда очень грубо «прокалывался».
– Ольга, подойди ко мне! Вот, специально для тебя привёз, – тащит из-под прилавка книженцию в яркой глянцевой обложке и читает торжественно: – Как это… сейчас… А, вот! Ты хочешь быть успешной на работе и дома?
– Ни за что на свете! – совершенно искренне кричу я и бегу к лифту.
Конечно, чаще я что-то покупала, а коллектив принимал в этом самое горячее участие.
– Ну-с, что приобрели? – смотрит поверх очков Семён Львович.
– Вот, Франк, – показываю книжку.
– А, тёзка! Похвально, – одобряет шеф.
– Эс Эл Франк. «Свет во тьме», – Лёшка засматривает на обложку. – Он что, тоже Семён Львович?
– Он Семён Людвигович! – торопится Павлик. – А его родной брат, Михаил Людвигович, – математик, а оба племянника – академики, физик и биофизик…
Это Павлик так ностальгирует по науке. Он пришёл к нам, бросив аспирантуру физтеха – что-то с темой не сложилось, руководитель уехал…
2Особенно памятно мне обсуждение книги Бердяева «Диалектика божественного и человеческого», потому что в тот день я потеряла в метро любимую енотовую шапку, привезённую из Греции в придачу к шубе. Раньше я ведь читала как дышала, вися в вагоне чуть ли не вниз головой, уцепившись за поручень, а теперь приходится лезть в сумку за очками, а их там не сразу и найдёшь, перед пересадкой надо снимать очки, запихивать в сумку вместе с книгой… Вот шапка и выпала. Я опомнилась только на другой ветке.
– Так вам и надо! – злорадно сказал Лёшка. – Поразвешивали тут… шкуры убитых животных!
Действительно, в шкафу завелась моль, и мы развесили шубы на гвоздиках и плечиках вдоль стен, от чего редакция приобрела вид компьютеризованной пещеры. Нутриевая шуба Людочки, Галин опоссум и мой «греческий» енот. И холодно, как в пещере! В институте опять не топят.
Женская половина редакции защищает права на шубы.
– Носить меха – наша традиция! – говорит Галя.
– И единственное утешение русских женщин, – вздыхает Людочка.
Муж Люды пьёт. Был завотделом отраслевого НИИ, а когда их разогнали, пришлось заняться «бизнесом», то есть чем-то торговать, чуть ли не гербалайфом, ну и… понятно…
– В Европе гринписовцы вас бы краской облили! – поддаёт жару Павлик.
– Вольно им в Европе дурью маяться! Там тепло, а у нас морозы! – парирую я.
– То-то вы распаренная, как из бани! – не поднимая головы от корректуры, замечает Семён Львович.
– Так я из метро!
Украдкой смотрю в зеркало. И вправду – рожа воспалённая, красная, лоб блестит от пота. Надо с собой что-то делать! Пудриться начать, что ли…
Потом Семён Львович заявил, что Бердяева читать вообще вредно, а мне в особенности, потому что у меня якобы и без «всех этих белибердяевых» каша в голове.
– А вот вы не правы, Семён Львович! У Бердяева много, конечно, вещей взаимоисключающих, но есть и совершенно трезвые и крайне для нас сегодня актуальные, например рассуждения о дьяволе!
– Чего-чего? – оживляется Павлик.
Все разом начинают говорить. Кто бы мог подумать, что у каждого в связи с дьяволом так наболело! А Лёшка бросил вёрстку, привычно развернулся от компьютера на своём кресле на колёсиках и даже рот открыл.
Звонит мой мобильник. Это Юрий Степаныч.
– Оля, у нас отчёт по гранту. Переведёшь? Только срочно!
– Ну, скинь по мейлу.
– Да Владимир Николаевич опять свою часть от руки написал, ты ж его знаешь… Пять страниц, не набирать же!
– Тогда под мостиком в восемь!
– А где ты была, когда я звонил? – любопытствует Юра вечером «под мостиком».
– В редакции, где же ещё…
– А чего у вас там такой крик стоял? Я думал, ты где-то на митинге…
– Видишь, в каких условиях приходится работать!
Тогда я доказывала, что Бердяев справедливо подметил, что дьяволом не пугать народ надо, а, напротив, объяснять, что этот господин скучен, пошл, банален…
Но Семён Львович, как всегда, разворачивает дискуссию:
– Оля, дорогая! Да кто и когда его боялся? Пошлость и привлекает… Вот и вы, Алексей, наверняка каждый день смотрите это ваше «За стеклом» или что-то в этом роде?
– «Дом два», – ехидно подсказывает Галя.
Лёшка конфузится:
– Да я изредка, только чтоб отвлечься… Обалдеешь тут от вёрстки…
– Вот, пожалуйста! Не то делаю, что люблю, а то творю, что ненавижу…
– А я не понимаю, почему Бердяев считает, что свобода была раньше Бога, – Павлик старается отвлечь всеобщее внимание от побагровевшего Лёшки.
– А вот это как раз и верно!
– Да господь с вами, Семён Львович! Как такое может быть? Это же ересь!
– Ересь, Ольга Геннадьевна, – это то, что вы коллектив от работы отвлекаете, – почему-то рассердился шеф. – Пожалуй, надо вас уволить!
– Молчу-молчу…
Я повернулась к компьютеру и забарабанила по клавиатуре, стараясь попадать в такт выпрыгивающей из радио цыганочке. Я знала, что шеф меня не уволит.
Он частенько вылезает из своего импровизированного кабинетика за шкафом и, останавливаясь у меня за спиной, говорит с удовольствием:
– Вы, Ольга Геннадьевна, прямо как шахтёр в забое! Как?! И обзор уже перевели? Вот это я понимаю! Дадим стране угля!
Правда, у моего друга-переводчика Валентина из редакции «Журнала новых химических проблем» несколько другие ассоциации.
Как-то, подобно Семёну Львовичу, он долго стоял у меня за спиной, мрачно подсказывая:
– Дефис пропустила.
– Да вижу, вижу!
– А без артикля специально? Я бы здесь «the» поставил…
Смотрел-смотрел, а потом вдруг и брякнул:
– Знаешь, Ольга, мне эта наша деятельность напоминает работу ассенизатора. Целыми днями перелопачиваем чьё-то дерьмо.
– Валя, – в восхищении зашептала я, откидываясь на спинку кресла, – я ведь точно так же думала, только озвучить стеснялась!
Нет, я тогда нисколько не испугалась угрозы увольнения, но обиделась за «белибердяевых», вспомнив повесть Юрия Трифонова «Предварительные итоги». Там ведь наш с Валей коллега, только гораздо более высокого полёта, поэт-переводчик Геннадий Сергеевич возмущается пристрастием жены к этим самым «белибердяевым». Но жена-то его нигде не работает и даже не справляется с домашним хозяйством в семье из трёх человек, и поэтому у них всегда живёт домработница. И где только Юрий Валентинович выискал такого монстра в семидесятом году? Ну а я сама себе переводчик, домработница и даже ассенизатор и буду читать что хочу!
А ещё, стуча по клавишам, я думала об овдовевшем философе Бердяеве, старом и беспомощном. О том, как он писал об ухаживавшей за ним сестре покойной жены – «Я бы не выжил без неё» – и об их таком же, как они, старом и уже умершем коте: «Всё время вижу, как он прыгает мне на колени…»
В другой раз я расплачивалась за удовольствие читать книжки по философии переводом длинного и мучительного китайского обзора. Китайского я, конечно, не знаю (мне только этого не хватало!), творение китайского автора надо было перевести с английского на русский. Ух, как же тяжело переводить на родной язык! Застреваешь на каждом предложении. То ли дело «американский» английский, будто специально придуманный для технических текстов! Вот все от переводов на русский и отлынивают до последнего…
– Не надо переводить, как Шекспир! – заклинал нас Семён Львович. – И никаких собственных измышлений! Ясность, лаконичность – вот что от вас требуется!
– Почему же «как Шекспир»? Мы ведь на русский переводим… Вы хотите сказать, не надо как Лев Толстой?
– И как Толстой тоже не надо!
В тот день я притащила из «Академкниги» сборник статей Константина Леонтьева «Храм и Церковь».
– Олечка, – сказал коварный Семён Львович, – вы такая милая женщина. Ну зачем вам эта «конституция с хреном», то бишь византизм и Царьград с проливами?
– С какими проливами?
– По-видимому, Босфор, Дарданеллы… Вам с Леонтьевым лучше знать. Вы что же, в книгу и не заглядывали? Там ведь эти проливы на каждой странице.
– При чём тут проливы? Леонтьев пишет про «цветущую сложность», это так важно в нашу эпоху глобализма и всеобщего массового усреднения…
– Про «цветущую сложность» вы, положим, в предисловии прочитали, а дальше на каждой странице «Царь-град с проливами»! Готов держать пари! Алексей, вы лицо незаинтересованное, будьте арбитром! Открывайте на любой странице, и, если там «Царьград с проливами», Ольга Геннадьевна берёт на перевод Хуан Фэня. К четвергу сделаете, Ольга Геннадьевна? Нет, лучше к среде.
– Ко вторнику не хотите? – говорю я как можно более ядовито: вторник – завтра.
– А я заинтересованное лицо, – неожиданно басит Лёшка.
– Отчего же? Вы ведь не переводите…
– Зато я верстаю! И верстаю, Семён Львович, восьмой номер! А между тем уже октябрь месяц.
– Да, действительно, – смущается шеф, – переводчики задерживают… Вот мы и нагоним с помощью Ольги Геннадьевны!
– Да что вы там нагоните! – вступает Галя. – Несчастный Хуан Фэнь валяется у нас уже полгода!
– И тем не менее… Павел, тогда я вас попрошу! А если «проливов» не окажется… Ольга Геннадьевна, чего вы желаете?
– Ничего я не желаю.
– Павел! Ольга Геннадьевна ничего не желает!
Лёшка не хочет уступить Павлику роль арбитра. Ухмыляясь, он вырывает у меня Леонтьева, мгновенно выхватывает опытным версталыцицким глазом требуемый текст и торжественно читает:
– Страница сто сорок… «И теперь… теперь… как страшно подумать, что нечто самое существенное для нас ускользнёт опять из наших рук! Самое существенное – это Царьград и проливы».
– Что и требовалось доказать! – ликует шеф. – Людочка, будьте добры, передайте Ольге Геннадьевне Хуан Фэня! Да-да, с «кишками»!
– Семён Львович, это нечестно!
– Отчего же?
Это «отчего же», употребляемое в редакции при всяком удобном случае, а часто и совсем не к месту, ввёл в обиход мой сын Серёжка.
3Я устраивалась в редакцию в девяносто первом году, когда Серёжка учился во втором классе. Мама тогда ещё работала, а Серёжка ходить на продлёнку решительно отказывался. Меня это изумляло. Я-то очень любила свою продлёнку конца шестидесятых. Бабушка умерла, когда мне исполнилось семь лет, мама на первых порах готовила как-то не очень разнообразно и на ужин нам с папой всегда подавала густые разваренные борщи или гигантскую куриную ногу в бульоне, а на продлёнке мы вкусно и очень весело обедали. Главное же, честно приготовив уроки, мы «бесились». Не помню точно, в чём это выражалось, но сие действо представлялось нам совершенно упоительным. Чудесная смесь чего-то природно-инстинктивного и осознанно-ритуального, вроде вечернего «бешенства» домашних кошек, смутно припоминающих, что они были когда-то ночными хищниками.
Утром на переменках мы, к зависти не ходивших на продлёнку одноклассников, то и дело заговорщицки напоминали друг другу:
– Быстренько сделаем уроки – и будем беситься!
Не успевавшим сделать уроки «быстренько» все самоотверженно помогали. У Серёжки же в классе царил крайний индивидуализм.
– А Серёжа опять от нас… дистанцировался, – встречала меня в школьном дворе «продлёночная» учительница, отрешённо глядя куда-то в сторону.
– Серый! – кричали мальчишки, задрав головы. – За тобой пришли!
Под самой раздвоенной вершиной высокой ели намечалось лёгкое шевеление, затем оно плавно прокатывалось колючей зелёной волной вдоль ствола вниз, и из-под широких ёлочных юбок «раструбом» спрыгивал на палевую осеннюю траву Серёжка – с независимым видом, в выбившейся из штанов байковой рубахе, большеголовый и растрёпанный, как Страшила из «Волшебника Изумрудного города». Учительница очень беспокоилась о самочувствии ели, произносила какие-то смутные слова о том, что растения мыслят и чувствуют «не хуже нас с вами»… В общем, с продлёнки Серёжку пришлось забрать. Вот и приходилось таскать мальчишку с собой в редакцию.
Помню, в первый раз мы пожаловали вдвоём как раз в тот день, когда должен был решиться вопрос о моём зачислении в штат редакции.
– Здравствуйте, Семён Львович! А это, извините, младенец, которого не с кем оставить…
– Ну здравствуй! – сказал Семён Львович, глядя на Серёжку поверх очков.
Серёжка молчал, надменно его разглядывая.
– Ты что же, никогда ни с кем не здороваешься?
– Отчего же? – процедил мой сын, смеривая высокомерным взглядом предполагаемого начальника матери.
К моему удивлению, Семён Львович нисколько не оскорбился, охотно взял меня на работу и не возражал даже, когда я иногда приводила Серёжку на редакционные сабантуи.
– Ну-с, Сергей Игоревич, коньячку? – серьёзно спрашивал шеф, а Серёжка важно кивал и тянулся через стол чокнуться с Семёном Львовичем чашкой томатного сока.
Правда, всё это привело к тому, что мой ныне двадцатичетырёхлетний сын с тех пор и по сей день совершенно искренне убеждён, что на работе мать и её коллеги только и делают, что выпивают и закусывают. А пятнадцать лет назад маленький Серёжка со всех ног наперегонки с котом мчался к телефону и восторженно вопил:
– Мама! «Вести» звонят!
Журнал наш называется «Известия химических наук».
Знакомством с Фёдором Ивановичем Гиренком я тоже обязана «Вестям». Книгу его «Патология русского ума. Взгляд на русскую философию» из серии «Путь к очевидности» я впервые увидела в киоске у Николая Александровича в девяносто девятом году. Почему-то я тогда её не купила, да и Николай Александрович не настаивал: он пытался всучить мне «Священную книгу Тота. Великiе арканы Таро. Абсолютные начала синтетической философии эзотеризма. Опытъ комментарiя Владимiра Шмакова». Конечно, не Тот и не Шмаков меня сбили. Я поняла, что автор «Патологии» Ф. И. Гиренок – профессор философского факультета МГУ, а с этим учебным заведением у меня были застарелые сложные отношения, обострившиеся как раз в преддверии рокового двухтысячного.
Мой Серёжка учился в так называемом «классе МГУ» физматшколы и через год намеревался поступать туда и только туда: в университет на ВМК – факультет вычислительной математики и кибернетики.
– Что вам дался этот эмь-ге-у? – нарочно противно выговаривал мой папа. – Свет клином, что ли, сошёлся? Столько прекрасных вузов в Москве!
Под прекрасными вузами подразумевалась папина Тимирязевка и отчасти мой МИТХТ, но при всём к ним уважении это в данном случае не подходило. А в Бауманский, который закончил Игорь, Серёжка, без сомнения, и так поступит – там по русскому и литературе не сочинение, а зачёт. Он и поступил так же, как ещё в одиннадцатом классе поступил в МИЭМ – Московский институт электроники и математики, несмотря на то что в этом институте сдавали сочинение. Наш мальчик получил триумфальную тройку, сочинив на «свободную» тему что-то такое о компьютерах и их безусловном превосходстве над слабым человеческом разумом. Но это всё не то, не в счёт! Наш Зелёный признаёт только ВМК МГУ! Да и я, честно говоря, тоже.
Зелёный – это домашнее Серёжкино прозвище. Лет в шесть он болел ветрянкой и сидел дома, измазанный зелёнкой.
– А Серый скоро выйдет? – спросили во дворе Серёжкины приятели.
– Он не Серый, а Зелёный, – отвечал мой папа, – а выйдет, когда поправится.
Сейчас папа опять выступает с особым мнением:
– Если так уж необходим университет, пусть вон к деду Жене едет! В Астрахань!
Дед Женя – это мой дядя, мамин брат, профессор Астраханской консерватории.
– Ну, что ты, Гена, с какой стати? – возмущается мама. – Зачем Серёженьке поступать в провинциальный университет? Он же москвич!
– Подумаешь! И это не он москвич – это я москвич!
– Не надо, дедушка. Всё-таки я здесь родился, и мама тоже… А тебя привезли в Москву прадедушка и прабабушка.
Это нечто неслыханное. Серёжка в первый раз в жизни не согласен с дедом.
– Ну и поступайте в ваш эмь-ге-у!
Легко сказать! Обе математики и физику Зелёный сдал на пятёрки, но вот сочинение… Я, холодея, вспоминала, как не поступил на мехмат мой одноклассник Мишка. Точно такой же расклад: обе математики – пять, сочинение – два, хотя Мишка писал, что называется, от души, по любимому нами «Петру Первому» А. Н. Толстого. Мы уговорили Мишку пойти на апелляцию.
Он рассказывал, как молоденькая преподавательница развернула щедро исчёрканный красным Мишкин труд и, вздыхая, сказала:
– Ну бог с ней, с орфографией! Про запятые я уж не говорю… Но, молодой человек, объясните мне, ради всего святого, почему вы Алексашку Меньшикова на всех страницах упорно называете Аркашкой?
Мишка только рукой махнул и пошёл… в МИФИ.
Я боялась повторения чего-то подобного. Серёжка писал как кура лапой, орфография туда-сюда – с шестого класса нанимали репетитора, но запятых всё равно не признавал. Главное же – они все, в отличие от нас с Мишкой, ничего не читали. Ни-че-го! Кроме Толкина и Ника Перумова. Редкие школьные сочинения за Серёжку писала я – не зря же получила четвёрку на химфаке. Одна надежда – на свободную тему про компьютеры.
Накануне дня сочинения позвонила Татьяна:
– Ну как вы? Готовы?
У Таньки, закончившей энергетический, потому что не хватило одного балла на физфак, тоже особые отношения с МГУ.
– Оля, ты спятила? Какая свободная тема?! Ты что, забыла? В МГУ отродясь не бывало свободных тем! И у них там до сих пор вся литература заканчивается Чеховым и Горьким!
Меня прошиб холодный пот. Ну, конечно! Я писала в семьдесят шестом году про «Вишнёвый сад», а у Таньки на несколько лет раньше было горьковское «На дне». Что же делать?
Зелёный испугался, но наотрез отказался читать брошюрку с «золотыми сочинениями»:
– Это же их сочинения, а не мои!
– Спокойно! – кричит в телефон Татьяна. – У меня есть что-то типа краткого курса, изложение школьной программы по литературе.
Понимая, что «краткий курс» наверняка валяется на любом лотке, я суеверно рванула через весь город к Тане.
И, выйдя на «Площади Ильича», вдруг увидела: вдаль, к храму в мелких луковках-маковках, уходит прямая, ярко освещённая солнцем дорога – улица Сергия Радонежского. Я вспомнила, что наш Серёжка, родившийся восьмого октября и названный по имени прадеда Сергея Николаевича, десять лет назад был крещён в честь этого святого. И Сергий Радонежский считается покровителем учащихся и студентов. Я добежала до церкви и бухнулась на колени перед ласковыми и грустными, всё понимающими глазами старика с овальной бородкой и свитком в руке.
Зелёный всю ночь читал «краткий курс». С экзамена явился бледный, но спокойный. С достоинством рассказывал, что писал сочинение на тему «Нравственный облик Свидригайлова и Лужина». По Достоевскому. «Преступление и наказание».
– Да какой у них нравственный облик?! Это же два отпетых негодяя!
– Ну почему же, мама? В каждом человеке можно найти что-то хорошее. Я рассматривал их в сравнении…
– Но почему именно Достоевский?! Это же самое трудное!
Оказалось, две другие темы совсем не годились – поэзия Пушкина и поэзия Лермонтова. Да уж, нравственные негодяи нам как-то ближе.
Больше всего меня смущало то, что как раз «Преступление и наказание» в Серёжкином классе бурно обсуждали и Зелёный имел по этому поводу особое мнение.
Пришёл как-то возмущённый:
– Ирина Викторовна говорит, что старик Мармеладов пьёт, потому что его среда заела! При чём тут среда? Ему просто нравится пить, как дяде Мише.
Я была вынуждена согласиться. «Дядя Миша», тот самый, пролетевший в своё время мимо мехмата, утверждает, что питие совершенно необходимо ему для работы, он так вдохновляется. Кроме того, его, Мишкин, организм устроен особым образом. Мой одноклассник – физик-теоретик, доктор наук.
Однако уже на следующий день после сочинения Серёжка скис и заявил, что, пожалуй, поедет с бабушкой на дачу. Поразительно! Зелёный был принципиальным и последовательным противником дачи, которую он люто ненавидел за отсутствие компьютера, телевизора и даже телефона – мобильниками наша семья тогда ещё не обзавелась.
Так и говорил с неподдельным отвращением:
– Я ненавижу это средневековье!
Но и когда никаких компьютеров ещё не было, а Серёжка был совсем маленьким, он каждую пятницу заявлял бабушке, тащившей его на дачу:
– А я не хочу дышать воздухом! Я хочу сидеть в вонючем дворе!
В общем, Зелёный так себя зарекомендовал, что на дачу его давно не приглашали.
Теперь же мама очень обрадовалась:
– Наконец-то разум возобладал, подышишь воздухом… Ты же как с креста снятый!
– Крест тут ни при чём. Я буду тебе помогать, копать…
– Да чего там копать-то в конце июля… – начала было мама, но, увидев папину предостерегающе поднятую бровь, закудахтала: – Да-да, моя детонька, поможешь бабушке… – И, всплеснув руками, унеслась на кухню.
Послезавтра папа и Игорь на работе. Ну что ж, значит, я съезжу в университет, посмотрю результаты и если… не три, то позвоню соседям по даче, Васильевым, потому что если не три, то надо срочно забирать документы из МГУ и нести их в Бауманский…
– Не надо звонить Васильевым, – сказал Серёжка страдальчески. – Я в любом случае приеду послезавтра, но ты всё равно сама съезди, посмотри…
Они уехали. А я на подкашивающихся ногах, непрерывно ощупывая рукой впервые в жизни надетый крестик под янтарными бусами (бусы я носила как талисман – мамин подарок!), брела по залитому июльским солнцем проспекту вдоль стройных задиристых копий университетского забора и бормотала:
– Батюшка Сергий, помоги! Только бы три, только бы три…
И наконец…
– Тройка! Мы поступили!
Всё ликовало и пело вместе со мной. Я всем всё раз и навсегда простила – и этому же самому ослепительному солнцу, казавшемуся мне чёрным двадцать четыре года назад, и моей поступившей подруге, грациозно сбегавшей со ступеней химфака, и шпилю главного здания, который – я ощущала физически – колол меня в спину, между лопаток, потом ещё долгие, долгие годы…
4Серёжка учился на ВМК с упоением. На первом курсе он не пропустил не то что ни одной пары, но, по-моему, ни одной минуты. Со второго семестра даже получал повышенную стипендию. Правда, рефераты по философии, социологии, религиоведению писала я. Не без участия Зелёного, конечно. Он скачивал из интернета необходимые материалы. Как-то, чтобы доказать сыну, что некоторые формы жизни могут существовать и вне компьютера, я отказалась от услуг интернета и почти всё переписала из Тальберга. Реферат назывался просто и скромно: «История православного христианства».
Конечно, я не стала скрывать от домашних, что Серёжка обязан поступлением самому Сергию Радонежскому. Мама отнеслась к этому с умилением, Игорь – скептически-вежливо, папа – как к чему-то естественному, а сам Зелёный любил поприкалываться.

