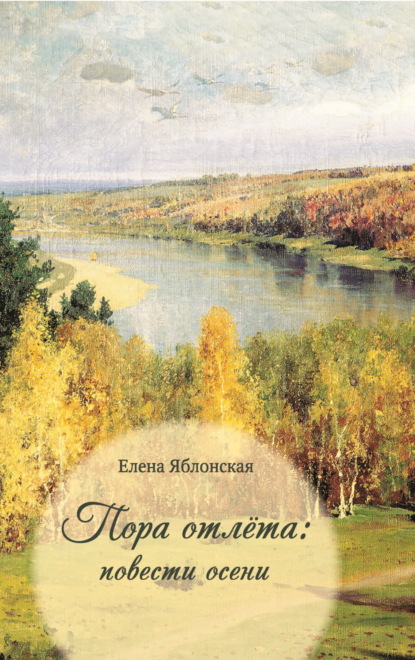
Полная версия:
Пора отлёта: повести осени
Мы недоумённо переглядывались, но Профессор слушал вполне безмятежно, а Фарид успокаивающе прошептал:
– У всех одни и те же заклинания…
Надо сказать, что защиты проходили у нас по-деловому. Банкеты устраивались только для своих, дома или в общежитии, потому что почти все члены учёного совета после заседания спешно уезжали в Москву на специальном институтском автобусе. И поэтому настоящий фурор произвела в перерыве ворвавшаяся в зал целая стая девушек – сотрудниц библиотеки, канцелярии, архива… Вереща «Эдвин, поздравляем!», насовали Эдьке целую кучу разнокалиберных букетов.
– Сколько поклонниц у нашего Эдвина! – задумчиво молвил Лев Яковлевич и посмотрел на меня с некоторым упрёком.
Он не знал про Андрея. А Эдька, сосредоточенно перетасовав букеты, на вытянутых руках, как младенца, вручил все цветы мне.
– Но твои дамочки обидятся!
– Это не дамочки.
– Кто скажет, что они не дамочки…
– Наташка, прекрати! Я тебя поздравляю!
Я была уже почти уверена, что это Эдька сидит напротив меня в маршрутке. Конечно, он сразу узнал меня, а теперь просто делает вид, что не узнаёт, – характер-то «нордический»! Он хочет разыграть меня, чтобы в ответ на мой лепет: «Молодой человек, вас не Эдвином зовут?..» – закричать: «Наташка, ты что?! Это же я!»
А тогда, в восемьдесят шестом, я таки донесла свой зуб мудрости до врача – через две недели после защиты и за неделю до свадьбы. Андрей заявил, что отказывается жить с моим зубом.
Боль была адская. Наверное, «заморозка» не подействовала. Я орала дурным голосом и дрыгала ногами, завалившись на спину в стоматологическом кресле.
– Ну-ну, потерпим, зубик немножко сложный, восьмёрочка… – бормотал сероглазый горбоносый доктор с огромными ручищами, поросшими рыжей шерстью.
Наконец «виновник торжества» был мне предъявлен. Положительно, это рогатое чудовище не могло поместиться у меня во рту! Медсестра отвела меня на кушетку.
– Следующий! – провозгласил доктор.
Дверь робко открылась, и на пороге предстал белый, как полотно, Ашот.
– У вас талон на десять тридцать? – осведомилась медсестра.
– Нет… Я пьятый биль, они все ушли… Наташшя, вы так кричали…
– Ну вот, всех больных мне распугала, – проворчал доктор и, склонившись над Ашотом, вдруг ласково закурлыкал на совершенно непонятном языке, причём были явственно различимы слова «новокаин» и «аллергия»!
Я так удивилась, что даже перестала ощупывать языком свой зуб, вернее, дырку в десне, заткнутую ватой.
– Ну надо же! – вдруг радостно завопил доктор, разворачиваясь ко мне. – Точно такая же восьмёрка! Внизу слева! И анатомия точно такая же!
Вот радость-то! Тьфу!
К карману докторского халата была прицеплена ранее ускользнувшая от моего внимания карточка: «Стоматолог-хирург Маркарянц Алексей Артурович».
– А почему наш доктор совсем без акцента говорит? – спросила я Ашота, когда мы брели из поликлиники по усыпанным жёлтой листвой дорожкам Академгородка.
– Он ростовский, – ответил Ашот и, потрогав щёку, добавил: – Отличный спецьялист…
Ашот рассказал, что когда-то все армянские фамилии оканчивались на «янц», но часть армян уехала – я забыла куда и почему – в Армении прошла реформа, букву «ц» убрали, а вернувшиеся так и остались Маркарянцами, Кнуньянцами… Ашот знал всё на свете, и не только про Армению, а я, к сожалению, не очень внимательно слушала. Не потому, что мне было неинтересно. Просто меня уже тогда тянуло на экзотику, а история Армении была такой же своей, привычной, навсегда родной, как русские буквы «ш» и «щ», пришедшие к нам, по словам Ашота, из древнего армянского алфавита… Как пышущие жаром пейзажи Сарьяна в Третьяковке… Как эти левитановские берёзы, что сейчас так привычно и щедро сыплют и сыплют золото нам под ноги…
8Кстати, мы довольно поздно сообразили, что наша лаборатория являет собой идеальный интернациональный коллектив, в котором ни одна национальность не повторяется. Посудите сами: Ашот – армянин, Лев Яковлевич – еврей, Эдька – немец, Фарид – татарин, Гюля – азербайджанка, Витя Дедович – белорус, Володька Ким – кореец. Да ещё я – Наташа Кондрацкая. А если прибавить наших друзей и постоянных «пришельцев» Тамарку Фераниди да Аркадия Раймовича Пельтонена – финна из Петрозаводска… Будто нас нарочно подбирали! «Не нарочно, но и не случайно, потому что нет ничего случайного», – скажет мне впоследствии Тамара, ставшая через много лет моей крёстной. А тогда мы это осознали тоже, хочется сказать, «случайно», исключительно благодаря Дедовичу.
Мы и не знали, что Витька белорус. Выяснилось это на комсомольско-молодёжном методологическом семинаре после доклада Дедовича на тему национальных отношений в Советском Союзе. Ну да, Дед ведь из Гомеля.
Семинар наш, руководимый Ашотом, был весьма примечательным явлением. «Клуб тайных диссидентов», – отзывался о нём парторг Анатолий Степаныч, усмехаясь в казацкие усы. В частных беседах, разумеется. Что мы только там не обсуждали! Помню, на меня невероятное впечатление произвёл доклад Миши Хапицкого. Тему не помню, что-то про экономику. Суть же доклада заключалась в том, что теперь, по мнению Миши, наступили качественно иные времена, когда не только из экономических, но и из самых высоких философских соображений выгодно не быть богатым, а напротив – иметь долги! Чем больше, тем выгоднее! Я-то всегда стеснялась просить в долг. Казалось, вот возьму у человека, а ему завтра не хватит на что-нибудь важное. Лучше уж перебьюсь, не голодаем же. И наоборот, радовалась, если кто-то просил у меня и было что одолжить. Не потому, что я такая уж альтруистка. Меня грела мысль, что, если у меня бывают иногда свободные деньги, значит, я не такая уж не умеющая жить дурёха, как считали моя мама и свекровь. А оказывается…
Безусловно, Миша был прав. По его примеру и мы с Андреем взяли в институте кредит на полторы тысячи рублей. Кредиты, выдаваемые всем молодым семьям, полагалось погасить из зарплаты в течение нескольких лет. На эти деньги мы отремонтировали квартиру, купили кое-какую мебель… И вдруг моя зарплата стала почти тысяча рублей в месяц! Вот и весь долг.
Да и вообще на семинарах было интересно. Одна беда – проходили они поздно, после работы, и я частенько на них засыпала. Задрёмывала, как лошадь в стойле, особенно когда родился Костька и мы с Андреем работали «в смену», то есть я с восьми утра до трёх без обеда, а он с трёх… уж не знаю до скольких! Когда он приходил, мы с Костькой спали как убитые. Правда, говорят, что все мужики тогда на работе ночи напролёт играли на компьютерах. Ну, неважно. Главное, что в дни семинаров мне удавалось выторговать себе вечернюю смену. Умоляла Тамарку или Эдьку будить меня, чтобы не пропустить что-нибудь интересное. Тамара добросовестно толкала меня локтем в бок, а Эдька не будил никогда.
Когда ребята поднимали крик, я просыпалась сама и шипела:
– Что, что он сказал? Кто, Кимыч сказал? А Дед что?
Эдька досадливо отмахивался:
– Шла бы ты домой, мать!
Крик поднимался часто. На семинар ходили не только комсомольцы и вовсе даже не молодёжь. Беспартийный Лев Яковлевич, например. Галя Ковальчук. Светлана Иванна, давно выросшая, как вы понимаете, из комсомола. Иногда заглядывала Цветана Георгиевна. Завлабов и женщин ребята, конечно, не трогали. Зато как-то принялись изгонять Володьку Кима, как вышедшего из комсомольского возраста.
– А чего вы тогда Ахмеджанова держите? – обиженно заорал Кимыч, выбрасывая по-каратистски руку в сторону Фарида. – Он меня на год старше, я знаю!
Все загалдели. Фаридик втягивал голову в плечи.
– Но ведь это замечательно, что не только молодёжь… и даже беспартийные… Вот и я, например… Как вы считаете, Ашот? – обеспокоенно нашёптывал сидевший неподалёку от меня Лев Яковлич.
Ашот кивал, но помалкивал. Покричали, похохотали и оставили и Кимыча, и Фаридиуса.
Витя Дедович рассказал об ужасающей демографической ситуации в Белоруссии. Рождаемость низкая, белорусы исчезают, ассимилируются. Доклад его не вызвал сочувствия. Ахмеджанов, выступавший в прениях, без особой грусти заметил, что да, русская культура, как более сильная, поглощает национальные культуры и он, Фарид, живя в родной Бугульме, класса до восьмого был убеждён, что «самовар» – исконно татарское слово. Под сильным впечатлением была почему-то только Светлана Иванна.
– Ну и пусть едет к себе в Гомель и размножается, – возмущалась она после семинара. – Мы-то здесь чем можем помочь?!
Светлана была коренная, подмосковная. Чувствовала ли она, что скоро именно ей придётся «помочь» Деду в деле размножения? Через полгода после того приснопамятного семинара Витька отбил Светлану Иванну, бывшую старше его минимум на десять лет, у мужа-грузина, с которым у неё было четверо детей! Это произвело такой шок, что потом в течение целого года институтская общественность ничего не могла сказать по этому поводу. Они только разводили руками, пучили глаза и беззвучно разевали рты, как рыбы, вытащенные из воды. А когда родился Алесь Дедович, все вдруг сразу с облегчением заговорили, что оно, пожалуй, и к лучшему, потому что Светлана с Вахтангом жили не то чтобы плохо, а как-то… странно. В самом деле, Вахтанг вечно пропадал неизвестно где, хотя его рабочее место, как теоретика, было дома, Светлана Иванна до поздней ночи ухала филином в кабинете Академика, а разнополые и разновозрастные дети воспитывали друг друга.
Вот характерный эпизод из жизни этой семьи, рассказанный Анатолием Степанычем.
Ковальчуки жили в одном подъезде с Вахтангом и Светланой. И вот как-то июньским вечером Толя, возвращаясь с работы, обнаружил беременную четвёртым ребёночком Светлану и троих старших детей на лавочке у подъезда. Оказывается, они забыли ключ и ждут папу, который неизвестно где.
– У тебя дверь на балкон открыта? – спросил Степаныч, решив залезть на балкон, выходивший на другую сторону дома, и открыть дверь изнутри.
Толя благополучно влез на второй этаж по раскидистой яблоне и вступил в комнату, казавшуюся огромной и таинственной в летних сумерках. Он прошёл в прихожую, повернул колёсико замка и, услышав храп из другой комнаты, заглянул туда. На диване спали двое, пахло спиртным. Добропорядочный семьянин и верный муж, влюблённый в свою Галину с первого курса и по сей день, Степаныч каялся, что его первой невольной мыслью было: «Вот молодец Вахтанг! Беременная жена с детьми под дверью сидит, а он тут с какой-то бабой…» Однако в следующее мгновение Толю прошиб холодный пот – он понял, что ошибся и залез в другую квартиру. Сейчас они проснутся – парторг института, забравшийся в чужой дом через балкон…
Степаныч не рискнул выйти через дверь – вдруг хлопнет, выбрался на улицу тем же путём, каким проник, и злобно сказал подошедшему Вахтангу:
– Пойди позвони соседям – пусть дверь закроют.
После развода не выдержавший срама Вахтанг уехал из Академгородка навсегда. Но не к родителям в Тбилиси, как можно было ожидать, а в Сыктывкар. Научный центр Коми АССР славился сильной математической школой. Его отъезд вызвал к жизни другой анекдот-быль, принесённый с учёного совета Львом Яковлевичем.
Аспирант Вахтанга отчитывается о проделанной работе.
– Так, очень хорошо! А где ваш научный руководитель?
– Он уехал. В Сыктывкар.
Отчитывается аспирант Гриши Маргулиса.
– А где ваш научный руководитель?
– Он уехал… но не в Сыктывкар!
Бедный Лев Яковлевич! Через несколько лет наш Профессор тоже уедет «не в Сыктывкар». Он страшно не хотел уезжать, уговорила дочь, Елена Львовна. Ещё меньше была готова к отъезду Эсфирь Самойловна.
– Моя родина здесь, – говорила, сжимая сухонький кулачок, учительница химии, подготовившая для Академгородка несколько поколений учёных, – но ничего не поделаешь, время идёт, Земля вертится… Надо ехать… Ради будущего Яшеньки…
Кулачок разжимался, и рука, кажется, смахивала слезинку – Эсфирь Самойловна быстро отворачивалась.
К сожалению, Эсфирь Самойловна не успела научить химии ни моего Костьку, ни мальчишек Ашота и Гюли. А учила она удивительно! Галя Ковальчук рассказывала, как восьмиклассник Антон, придя из школы, учинил допрос родителям.
– Мама! Папа! Вот скажите, есть ли в истории личность, которой вы восхищаетесь?
Дело было в ноябре девяносто третьего, и Степаныч ретировался от греха на балкон – покурить. Антон принялся обличать мать.
– Так как же, мама? У тебя есть идеал?
– Да, Чехов, Пастернак… – лепетала, чувствуя подвох, Галина.
– Мама! Ты же химик! А вот Эсфирь Самойловна сказала, что она восхищается, нет, боготворит… Менделеева!
9Конечно, такому выдающемуся учёному, как Лев Яковлевич, не могли не найти применения в Израиле – он стал преподавать в каком-то университете на юге страны. Шеф здорово поддержал меня в девяносто восьмом, выбив грант для перевода своего учебника на английский. Переведённые главы я отсылала по электронной почте, а гонорар Лев Яковлевич направлял на мой счёт в Сбербанке. Деньги мне выдавали недели через три.
– Etogo ne mojet byt’! – возмущался Профессор по электронке. – Мне сказали, что деньги будут в Москве через день! Это наши бюрократы что-то напутали. Наташа, не волнуйтесь, я разберусь.
Я нисколько не волновалась и убеждала Льва Яковлевича, что это не их, а наши бюрократы «крутят» несчастные двести долларов. Они, говорят, даже пенсиями не брезгуют, а уж мой гонорар покрутить – сам бог велел! Профессор не верил – наша страна даже после дефолта представлялась ему образцом справедливости. Он возмущался израильской безработицей и отношением к учёным: в его университете все уборщицы – кандидаты наук из Советского Союза! Я писала своему учителю, что и у нас теперь не лучше: и безработица, и отношение к учёным, а самое скверное – дети не хотят учиться, а только непрерывно пьют пиво и разговаривают матом…
– Наташа, поверьте, – отвечал Лев Яковлевич, – всё это преходяще. Я знаю, вы всё переборете! Как бы я хотел быть рядом с вами, но нам с Фирой уже поздно менять жизнь.
А Эсфирь Самойловна, так и не осилившая ни иврита, ни английского, всё плакала и порывалась вернуться домой с бывшим зятем, который не мог найти работу, стал выпивать и из-за этого разошёлся с Еленой Львовной. Конечно, никуда они не уехали. Елена Львовна, впрочем, тоже не процветала – кажется, это она одно время была уборщицей – кандидатом наук. Вполне вписался в жизнь на исторической родине только подросший Яшка. Он отслужил в армии, к огорчению деда наотрез отказался поступать в университет, торгует компьютерами, ходит в ермолке и фыркает на безработного отца за то, что тот побоялся на старости лет подвергнуть себя обрезанию.
Лев Яковлевич, как и Эдька, уехал довольно поздно, в девяносто пятом. А первым лабораторию покинул Володька Ким. Это произошло незаметно – командировки его в Голландию становились всё длиннее, потом был предложен контракт на год, а потом Кимыч с женой переехали в Америку. Навсегда. Володька присылал фотографии: он на лестнице своего дома под руку с женой, которая на полголовы выше его, и на самурайской физиономии Кимыча застыло точно такое же выражение блаженства, как на широком добродушном лице его толстухи Марианны. «Ваша прекрасная фламандка», как в период Володькиного жениховства высокопарно величал её Лев Яковлич за пышные формы и пышные же рыжие волосы и за то, что Кимыч познакомился с ней в Голландии. Хотя, конечно, никакая она не голландка и не фламандка, а просто Маринка Зельцер – моя однокурсница.
Витя Дедович ушёл из института, но остался в Академгородке. Я иногда встречаю его на улице. Он работает в какой-то непонятной фирме и на вопрос «А ты куда ушёл?» загадочно отвечает: «К себе».
В церкви мы с Тамарой часто видим Цветану Георгиевну. Она сильно постарела и уже не узнаёт меня на улице. По-прежнему заведует лабораторией, хотя часто болеет и просится на пенсию. Заставила-таки Тамарку защититься: «Вы меня замените…»
Миша Хапицкий теперь владелец рынка и нескольких магазинов в Академгородке. Они с Нонкой живут в коттедже с башенками в новом районе за речкой Чернавкой.
– Да, Миша – миллионер, – важничает Нонка. – Правда, пока не долларовый.
Неугомонный Фаридиус организовал театр где-то на юго-востоке Москвы. Он там и режиссёр, и ведущий актёр, и рабочий сцены… К стыду своему, я так и не выбралась ни разу к нему на спектакль.
Ашот с Гюлей тоже было уехали. Сначала во Францию, потом в Канаду. Все думали – навсегда. Но они вернулись лет через пять.
– Я хочу, чтобы родным языком моих сыновей был русский, – сказал Ашот.
Гюлыпен была рада возвращению по другим причинам. Ни во Франции, ни в Канаде ей не давали разрешения на работу, да и с мальчишками кому-то надо было сидеть. А дома, в Академгородке, поочерёдно несли вахту бесчисленные бабушки и тётушки из Еревана и Баку. Теперь Гюля с Ашотом, кажется, чуть ли не единственные сотрудники, оставшиеся даже не в лаборатории, а на весь когда-то огромный отдел. Так и публикуются вдвоём в нашем журнале: «А. С. Аветисян, Г. Г. Махмудова. Фотохимическое поведение нового супрамолекулярного ансамбля в магнитном поле».
Недавно мне позвонили в домофон: «Наталья Алексеевна? Это по поводу статьи…» Я открыла дверь и от неожиданности отпрянула. На пороге, сверкая белозубой улыбкой над роскошной, отливающей антрацитом ваххабитской бородой, стоял высоченный широкоплечий красавец. Настоящий абрек!
– Здрасьте, тётя Наташа! – сказал абрек с таким щемящим душу московским выговором, какого никогда не добиться мне, крымчанке, хоть проживи я здесь ещё тридцать лет. – Папа просил статью закинуть в редакцию, а это от мамы.
В пакетике была домашняя пахлава, а испугавший меня «ваххабит» оказался Серёжкой, Саркисом Аветисяном, старшим сыном Ашота и Гюльшен.
Аркадий после бесплодного и мучительного романа с Тамаркой (мучились, впрочем, главным образом Аркадьевы друзья и Тамарины подруги) женился на москвичке и переехал в Москву. Теперь он проректор одного московского вуза, с женой развёлся. Аркадий звонил мне в редакцию полгода назад, передавал привет от Эдьки, с которым встречался на симпозиуме в Италии. Доктор Эдвин Байер заведует лабораторией органического синтеза в небольшой компании, у него жена, русская немка, и дочь – Наташа.
Внезапно запищал мобильник. У него, у Эдьки.
– Да, уже в Москве, подъезжаю. Через час буду…
Как же я могла принять за нашего Эдьку этого худосочного парня с тусклым голосом!..
В Москве накрапывал дождь. Мы выскочили из маршрутки и побежали к метро.
2007 год
Фёдор Иванович и другие
За высоту ж этой звонкой разлуки, О, пренебрегнутые мои, Благодарю и целую вас, руки Родины, робости, дружбы, семьи.
Борис Пастернак1Это началось давно, а конца что-то и не предвидится. Я имею в виду моё роковое увлечение, возможно несколько странное для дамы моих лет и статуса. Впрочем, какой там статус! Я редактор-переводчик в научном журнале, проще говоря, замотанная редакторша с красными от компьютера кроличьими глазками и ранней старческой дальнозоркостью. Да и считать моё пристрастие роковым можно только для меня самой и моей семьи. Правда, муж мой уже привык, что жена в течение последних десяти лет хотя бы раз в две недели притаскивает с работы «джентльменский набор» в большой хозяйственной сумке. В набор входят: 1) статьи для литературной правки, то есть авторская компьютерная писанина, неряшливо и неразборчиво исчёрканная зелёной шариковой ручкой научного редактора и называемая в редакционных кулуарах «кишками», 2) статьи на перевод – чистенькие, уже отредактированные и свёрстанные, 3) какой-нибудь новый словарь (теперь, слава богу, их издают во множестве, только цены жуткие!) и… 4) книжка по философии. А после того, как мы посмотрели по телевизору добрый советский фильм восемьдесят второго года «Время для размышлений», Игорь стал относиться к моему увлечению со снисходительным, хотя и несколько высокомерным юмором. В этом фильме измученная вычиткой корректур редакторша разводится с мужем. Муж – научный работник, получает «гроши», но позволяет себе собирать книги по философии. «Спиноза!» – с негодованием говорит бывшая жена. Мой Игорь – тоже научный работник, зарабатывающий гроши. Ну а я, стало быть, редакторша и Спиноза в одном лице! А главное, добытчик в семье я – имею право!
Лет пятнадцать назад подруга Татьяна дала мне почитать Карла Ясперса – «Смысл и назначение истории». Читать что-либо кроме редакционных статей мне удаётся только в транспорте. К счастью, от дома до работы почти два часа с пересадками, и потому Танька, живущая в двух троллейбусных остановках от своего и бывшего моего института, даже немного мне завидует. Я и читала Ясперса под «Осторожно, двери закрываются!», под шорох, шёпот, шум и шелест людского прибоя, который то вольётся в вагон говорливой волной, то облегчённо отхлынет, цепляясь за остроугольные скалы-«кейсы», пузатые валуны-портфели, неповоротливые старушечьи сумки на колёсиках и огромные полиэтиленовые мешки челночников. Читала и радостно удивлялась неугасимой вере старого немецкого профессора, пережившего фашизм. Высокой вере в Человека, а значит, и в эту мою толкающуюся и ругающуюся, разноплемённую и родную толпу в московском метро.
Потом был Мамардашвили – «Лекции по античной философии», «Кантианские вариации». Уже одно название серии «Путь к очевидности» издательства «Аграф» вызывало смутный восторг. Я завидовала Раисе Максимовне Горбачёвой, учившейся с философом на одном курсе. И зачем я поступала на химфак?! Правда, к удивлению Таньки, я совершенно не разделяла зависти, как почему-то принято было считать, всех советских женщин к нарядам тогдашней первой леди и её возможностям разъезжать по миру. Хотя модной одежды нам с Таней в своё время тоже остро хотелось, а уж о дальних странах мы тогда и мечтать не смели. Но вот философский факультет МГУ… Мне ведь даже на химфак не хватило одного балла, и я училась в небольшом и уютном химическом вузе, аббревиатуру которого – МИТХТ – мы с шиком расшифровывали непосвящённым как Московский институт театрально-художественного творчества. Мой Игорь, тогда студент Бауманки, тоже поначалу попался на эту удочку.
После Мамардашвили и Тойнби, «Истории новой философии» Виндельбанда и «Истории западной философии» Рассела, «Истории христианства» Тальберга и «Истории русской философии» Зеньковского пришло время русских религиозных философов. Бердяев, Шестов, Ильин, Франк, Лосский, Булгаков, Флоренский… Как раз в это время на первом этаже института, в здании которого помещалась наша редакция, появился киоск «Академкнига» с суровым пожилым продавцом Николаем Александровичем. Я его почему-то побаивалась и покорно покупала предлагаемые книги. Ну не все, конечно.
– Ольга, подойди ко мне! – разносился начальственный крик Николая Александровича под гулкими сводами институтского вестибюля, когда я пыталась, минуя киоск, прошмыгнуть к лифту.
– В перерыве, Николай Александрыч, я же опаздываю… – говорю умоляюще, нажимая кнопку лифта и косясь на висящие над входом часы.
Да ещё, как нарочно, наш заведующий Семён Львович прогуливается по вестибюлю с каким-нибудь автором и укоризненно поглядывает на меня поверх «дальнозорких» очков.
– Хорошая книга, только у меня сейчас денег нет! – честно говорю в перерыве.
Но Николай Александрович неумолим.
– Займи у товарищей! Я специально для тебя со склада вёз, а у меня, между прочим, радикулит!
Приходилось занимать у ребят – верстальщика Лёшки Хомякова или Павлика, нашего системного администратора.
– Ольга Геннадьевна, этот мужчина вас погубит! – хохочет Павлик.
– Он вас разорит! – поддерживает друга Лёшка.
– Да вы поймите, – оправдываюсь, – он же не от хорошей жизни… У него радикулит и пенсия маленькая, а до перестройки был, небось, руководителем. Каким-нибудь главным инженером или начальником отдела…
– Ага, начальником первого отдела он был, – веселятся мои злодеи. – Знаете такой отдел, Ольга Геннадьевна?
– Не знаю и знать не хочу! – сержусь я.
Конечно, я знала такой отдел и даже недавно общалась с Константином Николаевичем, престарелым начальником первого отдела моего бывшего института. Уйдя в редакцию, я продолжала по старой дружбе переводить статьи и отчёты для Юрия Степановича, моего завлаба из прошлой, «химической» жизни. Юру, однако, угнетала необходимость ради этого встречаться со мной в метро. Я обычно романтически назначала ему свидание «на нашем месте» – под мостиком перехода на «Библиотеке имени Ленина», но Юра вечно не успевал, забывал, путал и опаздывал, и я ждала его, читая новую философскую книжку под грохот набегающих поездов.
– Слушай, возвращайся к нам на полставки, – убеждал Юра, замотанный добыванием грантов и бесконечными отчётами. – Будешь приезжать раз в недельку, переведёшь, поболтаем, чайку попьём…
Ну что ж. Директор института по просьбе Юрия Степановича безропотно подписал приказ на полставки. Нужна была виза первого отдела. Я была там единственный раз – в том самом восемьдесят втором году, когда устраивалась на работу по распределению сразу после окончания МИТХТ. Тогда я называлась «молодым специалистом» и подписывала какие-то бумаги: «Обязуюсь не разглашать… после общения с иностранными гражданами… обязуюсь…»

