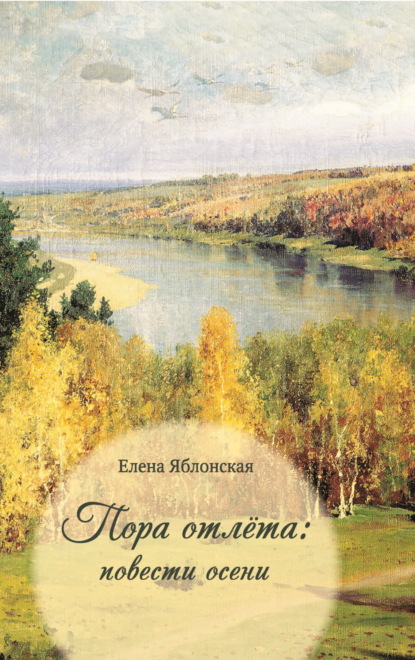
Полная версия:
Пора отлёта: повести осени
– Простите, они калмыки? – шёпотом спросила я у женщины славянской наружности, торговавшей семечками.
– Казахи. Вы по Казахстану едете.
Какой позор – не узнать родственников! Хорошо хоть, родители не слышали! Впрочем, чего уж я так убиваюсь… Наш кареглазый темноволосый Толик очень похож, по всеобщему признанию, на бабушку Надю, а Славка, прозванный в семье Чингисханом за широкие, сросшиеся на переносице брови, русоволос и сероглаз. Да и тётя Дана-та, кажется, говорила, что одна её бабушка, именем которой она и названа, – калмычка. А главное, все мы – и тётя Даната, астраханская уроженка, и мой однокурсник Серик Турсунбаев из Алма-Аты, работающий сейчас на пусконаладке в Минске, и живущий в Канаде москвич Бахыт, и эти люди на платформе, и весь наш поезд, семнадцать вагонов, – говорим совершенно одинаково на нашем великом, непостижимом, столь трудном для перевода… Повеселев, я вернулась в вагон.
Поезд нёсся на север. На востоке казахская степь погружалась в таинственно-тусклое чернёное серебро, а в противоположных окнах древнее кочевое солнце садилось в озеро Эльтон и, отражаясь от его солёной кристаллической тверди, заливало ядовитой киноварью вагонные стёкла. Там, на западе, за Волгоградским водохранилищем, начинается Область Войска Донского, и точно посередине меж Казахстаном и Украиной лежит станица Клетская – родина бабушки Нади. Ни отец её, ни братья не успели стать ни белыми, ни красными казаками, войн и бед, глада и мора в России без того и до того хватало. Из большой казацкой семьи Новиковых к семнадцатому году осталась она одна, пятнадцатилетняя. В станице их звали хохлами, да они и сами помнили, что фамилия их была Новиченко и пришли они из Малороссии. Может быть, из того самого села над плавным неторопливым Днепром, где с семнадцатого века по семнадцатый год бессменно служили деды, прадеды, прапрадеды моего папы, старый священнический род Преображенских… Мы ехали в поезде по бескрайней и прекрасной, такой разной и всё-таки единой земле моих предков. Моей земле. Нашей.
Под Тамбовом пахнуло дождём и запахло антоновкой. В вагон входили курносые говорливые тётеньки, нагруженные, как верблюдицы, тюками вязаных вещей: носков, варежек, шалей. Пассажиры не покупали и смеялись: «Ну что же вы, в июле…» А скоро уж и Москва, Павелецкий вокзал. И о нём тоже писал Бахыт:
Дар Божий, путешествия! Недаром,вонзая нож двойной в леса и горы,мы, как эфиром, паровозным паромдышали, и вокзалы, как соборы,выстраивали, чтобы из вагоноввступать под чудо-своды, люстры, фрески.Сей мир, где с гаечным ключом Платонови со звездой-полынью Достоевский…7После третьего курса нас посылали на практику на химические заводы. Нам с Маринкой достался Воронеж, завод синтетического каучука.
Мама тогда необыкновенно взволновалась и звонила в Астрахань дяде Жене:
– Женичка, ты можешь себе представить – Оличку посылают в Воронеж! На практику! Женька, может, и мы сорвёмся? Даната тебя отпустит? На недельку! Ведь это наше детство…
Они не «сорвались» – у дяди Жени в это время были вступительные экзамены в консерватории. И честно говоря, я была рада, что они не поехали. Мы вчетвером – Володька Русавин, Серик Турсунбаев, Маринка и я – попали в цех по производству мономера, этилового спирта. Собственно, практику мы проходили не в цехе, а в красном уголке. Запаха этанола в этом помещении совсем не чувствовалось, но дико клонило в сон. С этим ничего нельзя было поделать. Маринка спала, уронив кудрявую рыжую голову на цеховой регламент. Предполагалось, что она его изучает. Я не лицемерила – сразу составляла в ряд несколько стульев и укладывалась на них. Мешал мне только сидевший напротив Серик. Открывая иногда глаза, я с ужасом видела, как его круглая черноволосая голова откидывается на спину и судорожно дёргается острый кадык на тонкой шее.
– Вова, как ты думаешь, у Серика голова не оторвётся? – боязливо шептала я.
– Я не сплю, – трезвым голосом говорил Серик, и голова его тут же снова начинала клониться и дёргаться.
Володька безмятежно перерисовывал технологическую схему. Он совершенно не пьянеет, сколько бы ни выпил. А выпивает, змей, между прочим, больше всех.
Всё это было мучительно. Скорей бы конец рабочего дня – немедленно домой и спать, спать… Но приходил молодой и весёлый технолог цеха:
– Как это домой? Отставить! Всем купаться – согласно регламенту!
И тащил нас на водохранилище. Там свежо пахло водой, щебетали детишки, летал над головами волейбольный мяч, а наш технолог, округляя глаза, рассказывал, как несколько лет назад воронежцы заметили, что в конце мая, в тридцатиградусную жару, с водохранилища не сходит лёд. Оказалось, это всплыла вверх брюхом вся рыба.
– Фенол? – спрашивал Володька со знанием дела.
Потом ехали на трамвайчике домой, и спать уже не хотелось. Жили мы у вокзала, в общежитии Воронежского университета. Мы с Маринкой – в комнате выпускниц филологического факультета Наташи и Нины. Нина – беленькая, тоненькая и совсем не похожая на деревенскую – всё не уезжала домой, тянула время. Ей очень не хотелось ехать по распределению в свою деревню, учить детей русскому и литературе. А Наташа, плотная, высокая, коротко стриженная темноволосая девчонка, добивалась распределения куда-нибудь подальше – можно и в деревню, лишь бы не в своей Воронежской области.
Пили мы каждый вечер, и пили много. Приходили Серик с Володькой и Нинкин друг грек-киприот Костас – студент исторического факультета. Забегала забавная, похожая на обезьянку Светка с четвёртого курса филфака – отделение романо-германской филологии. Светка жила где-то на квартире, но каждый вечер являлась в общежитие, бродила по этажам и трубным басом кричала: «Молча-а-ать!..» Светку выгнали из общежития ещё на втором курсе за аморальное поведение.
– Вы же понимаете, девчонки, я ничего плохого не делала, ну там покричишь «Молчать!»…
Володька мигом выучился кричать точно так же, и они совершенно одинаково перекликались на разных этажах общежития, приводя в полное замешательство охотившуюся за Светкой комендантшу. Горбоносый сухопарый Костас после первого же стакана лез на стол, лопоча что-то по-гречески и зачем-то сдирая с себя одежду. Серик бесцеремонно сдёргивал его со стола, они с Вовкой кое-как его утихомиривали, а девчонки хохотали: «Он всегда так!» Наташа доставала тетрадочки, читала стихи, в том числе нам тогда неизвестные.
– На доске малиновой, червонной,На кону горы крутопоклонной, —Втридорога снегом напоённый,Высоко занёсся санный, сонныйПолу-город, полу-берег конный…Это Мандельштам про наш Воронеж написал, а это, Олечка, тебе посвящается:
На откосы, Волга, хлынь, Волга, хлынь,Гром, ударь в тесины новые,Крупный град, по стёклам двинь, – грянь и двинь,А в Москве ты, чернобровая,Выше голову закинь.К концу нашей практики Нина собралась наконец домой и пригласила нас с Маринкой, Серика и Володьку на несколько дней погостить, чтоб на первых порах не так тоскливо было. Нас провожали Наташа и Костас.
– Ну, Наташка, прощай! Может, встретимся ещё когда-нибудь… Прощай, Костас! С тобой-то мы точно никогда не увидимся! – Нина, плача, бросилась к Костасу на шею.
Володька и Серик хмурились.
– А почему бы ей замуж за него не выйти? – шёпотом спросила Маринка у Наташи.
– Да женат он! У себя, на Кипре… Дочке три года…
Поезд уносил нас на юго-восток, к Калачу. В четыре утра сонная проводница высадила нас на маленькой станции. Из-под шпал и дощатого разбитого виадука выбивались глядящие во все глаза голенастые пунцовые мальвы. Путь нам преграждал зачем-то остановившийся здесь поезд дальнего следования Минск – Иркутск. Все пассажиры спали, и только дядька в белой майке с татуировкой на плече курил, свешиваясь с верхней полки, и стряхивал пепел в окно, на закапанную мазутом платформу.
Он долго с удивлением разглядывал Серика и окликнул негромко:
– Эй, парень! Ты откуда такой?
– Из Алма-Аты.
– Студент, что ли?
– Ага.
– Молодец!
Поезд одобрительно ухнул, ахнул и умчался. И мы увидели безбрежную серебристо-сизую степь и прямо перед нами малиновый диск восходящего солнца. На фоне диска чернели силуэты – двое мужчин и два «жигулёнка». Это были приехавшие нас встречать брат Нины и его товарищ.
Мы с Маринкой и Вовой сели в первую машину – к брату Нины. Поехали. На белой, меловой, издали казавшейся ровной дороге нас резко кидало из стороны в сторону. Вокруг до самого горизонта ни деревца, ни кустика, только каменистые овраги да буераки. Мы с Маринкой стукались лбами, хватались друг за друга.
– Вот ужас! Да как же вы ездите тут?
– Норма-ально! Держись! Щас воронка будет – с войны осталась!
– А-ах!
Внезапно мы резко затормозили.
– Девчонки, выходи!
Вторая машина тоже остановилась. Солнце уже жгло немилосердно. Степь звенела цикадами. Вдали зыбко курчавилось баранье стадо. Нинкин брат достал из багажника замотанные в тряпицу гранёные стаканы, а его товарищ – бутыль с мутноватой жидкостью.
– Самогон? – всполошилась Маринка. – Я не буду! Меня и так укачало!
– Нормально! Пей!
Все выпили по полстакана. Сели, поехали. Внезапно стало необыкновенно весело. Мы с Маринкой бессмысленно хохотали. Нинкин брат ухмылялся. Володька кричал: «Молча-а-ать!»
Ныряя и взлетая, мчались по селу, по такой же горбатой пыльной дороге. Село лежало в балке. Сразу от окон низеньких домиков круто уходила вверх вскипевшая, вздыбленная, в редких сухих травах земля. На заборах жмурились коты, собаки смотрели сонными глазами. Нас встречала Нинина бабушка, каждого троекратно целовала. Мы смущались и старались не дышать на старушку.
– Нормально! – смеялся Нинкин брат. – Бабка привычная!
Потом ели жирные дымящиеся зелёные щи из баранины с густой сметаной и крутыми яйцами. У всех яиц были поразительно крупные оранжевые желтки. Нам постелили на сеновале. В углу в полу зияла большая дыра.
– Это чтобы сено корове сбрасывать, – объяснила Нина. – Смотрите не свалитесь!
Было восемь часов утра. Володька, развалившись на сене и скаля зубы, как империалист «мистер Твистер», курил откуда-то взявшуюся сигару. Кажется, они с Сериком опять пили самогон. Я заснула и сквозь сон слышала, как, квохча, бегала по нам, спящим, курица, пока Володька хладнокровно не схватил её за ноги и не сбросил в дыру к корове.
Мы проспали до вечера. Солнце садилось в пылающую степь, как в медный таз с кипящим вареньем. Нина повела нас в старый заброшенный сад за крыжовником и малиной и там плакала, прижавшись лицом к морщинистому стволу одичавшей раскидистой груши. Ребята, отвернувшись, курили, а я старалась вспоминать страшный бунинский «Суходол», опалённый этим медным солнцем и навеки запечатанный надменным сургучом дворянской гордости, горечи и вырождения. Но вместо этого мне всё слышался вой и грохот разрывающихся снарядов и виделась бурая, в дыму и в воронках, каменистая степь, по которой бежал худой сутулый подросток, мой дядя Женя, таща за руку и закрывая собой маленькую плачущую Лёлю, и шептал стынущими губами: «Во что бы то ни стало…»
А потом в синеватых холодеющих сумерках мы, впервые за последний месяц трезвые, полоскали в баньке волосы терпким настоем из степных трав, а мальчишки под руководством бабушки кололи дрова. И, закутавшись в простыни, сидели все вместе на поленнице, и бабушка нараспев говорила:
– Звёзды-то, вишь, с кулак… Только у нас в степи такие бывают!
А задумавшаяся Нина вдыхала горький полынный воздух родины и больше уже не плакала. Мы, по крайней мере, не видели.
Какой ещё беды, какой любви мыпод старость ищем, будто забывая,что жизнь, как дальний путь, непоправимаи глубока, как рана ножевая?Двоясь, лепечет муза грешных странствийо том, что снег – как кобальт на фаянсе,в руке – обол, а на сугробе – собольи нет в любови прибыли особой…Вернувшись в Воронеж, мы узнали от Светки, что Наташа добилась распределения в Сибирь и уехала. А в сентябре в Москву пришло письмо из Иркутска: «Мариночка, Оля, девочки! Как же огромна и прекрасна наша страна, но, когда смотришь на карту, этого не понимаешь. Вы обязательно должны приехать ко мне в гости. Только не летите самолётом! Надо сесть в поезд и ехать, ехать…»
8А детство папы я встретила неожиданно для себя три года назад в Вологодском краю.
В июле две тысячи четвёртого года я поехала в Кириллов в археологическую экспедицию. Вообще-то туда был приглашён Серёжка, но ему неожиданно дали путёвку в лагерь МГУ под Туапсе. Отказаться от лагеря перешедший на последний курс Серёжка никак не мог. Ну я и поехала, чтобы не подводить Татьяну. Это она просила своего сына Илью взять в экспедицию нашего Зелёного. Двадцатисемилетний Илюшка десять лет назад не добрал одного балла в МГУ на исторический («Кажется, это стало хорошим тоном!» – иронизировал мой муж) и поехал на родину отца, в Вологду. А в Вологде успешно окончил университет, стал археологом, женился – да так и остался. И вместе с коллегами создал великолепный археологический музей в Кирилло-Белозерском монастыре.
Мы раскапывали рыбацкую, она же стрелецкая, слободу на территории монастыря. За рыжевато-мшистыми монастырскими стенами плескалось вместе с былинными облаками и отражёнными деревьями Сиверское озеро. Отполированные водой корни огромных раскидистых тополей уходили в холодные озёрные воды, а внутри, на подворье, прямо напротив нашего раскопа, как страж, высился кудрявый красавец дуб, тот самый, так часто снившийся мне, – наверное, в детстве я увидела его на какой-то картине.
Я сразу выкопала сломанную пополам иглу и половинку каменного грузила для сетей. Точно такое же похожее на висячий амбарный замок грузило, только целое, хранилось в музее. И ржавую дужку от настоящего замка тоже я нашла. Илью мои находки не удивили: «Новичкам везёт». А потом под моими руками из-под слоя земли радостно заблистал кусок яркой жёлто-бело-зелёной эмали с забавным кобальтово-синим коником и… всё. Больше ничего не попадалось, кроме длиннющих треугольных в сечении гвоздей с гигантскими шляпками. Наверное, я перестала быть новичком. А рядом студенты находили монетки, и Илья, вооружившись лупой, читал на них «1706» и что-то такое про «самодержавца Петра Алексеевича»… Я заскучала и вдруг почувствовала судорожную боль и дрожь в скрюченных ногах – копать надо было на корточках. На другой день я попросилась на «камералку» – отмывать в тазу и чистить щёточкой ржавые гвозди и прозрачные рыбьи косточки. Вот и хорошо. Я мыла и поглядывала на дуб…
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
На этой машине я… мы не поедем! (Нем.)
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов

