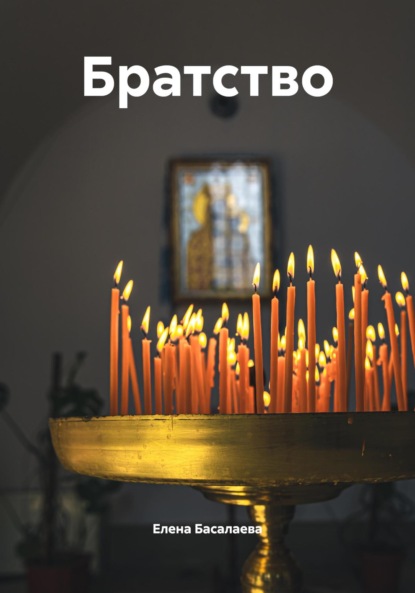
Полная версия:
Братство
– Я вижу, что вы очень тянетесь к вере. Приходите в наш православный молодёжный клуб в субботу на следующей неделе
– Хорошо, отец Семён, – Полина протянула сложенные лодочкой ладони для благословения.
Никакого молодёжного клуба не было и в помине, но на следующий день Семён подошёл к местному звонарю Саше, который «в миру» трудился таксистом, потом – к молодой супружеской паре Антона и Яны, которых недавно венчал, к девушке Кате и алтарнику Диме. Из них не отказался прийти на встречу ни один, и Семён увидел в этом не что иное, как Божий знак. Значит, он всё делал верно. Катя к тому же привела двух подруг, и хотя Семёну не очень нравилось, что число девушек в его набирающейся пастве теперь больше, он решил, что Господь знает, кого призывать.
Поначалу молодые сидели за столом вместе со стариками, так же гоняли чай, слушали жития святых и толкования на Евангелие. Но через пару месяцев Семён со страхом стал замечать, что его драгоценная паства скучает, и вот уже вначале один, потом другой, третий человек находили причины, чтобы не посещать клуб. Семён, воспользовавшись помощью Антона, дизайнера по профессии, организовал красочный спектакль на Пасху, который показали в доме престарелых. Это очень оживило народ, и Семён почувствовал, что должен просто-напросто делать всё, что угодно, лишь бы укрепить связь между собой и этими пришедшими к нему, как пастырю, молодыми людьми. Пикники на острове и волейбол подошли идеально. Семён погружался в стихию игры, ловил мяч и наверху, и над самой землёй, делал нижний пас Антону, тоже хорошему игроку, и с восторгом следил, как тот после быстрого разбега стрелой взлетает вверх и перебрасывает мяч на сторону соперников. Хотя команды играли друг против друга, они были единым целым – все, даже неловкая Катя, у которой мяч вываливался из рук, чувствовали свою общность, и праздновали победу другой стороны, как будто свою. Как раз благодаря волейболу Семён понял, что воскресные встречи после службы – этого мало, и не только ему, но и ребятам. Они стали собираться дважды в неделю – один раз вместе с основным составом клуба, другой – отдельно. Пару раз даже сходили вместе в драматический театр, и к их дружной компании, на удивление Семёну, вдруг подтянулись пара «старушек» из основного состава православного клуба. Молодые приняли их тепло.
Недовольна этими встречами была только Маша, которая ждала уже второго ребёнка и сидела дома с маленьким Гавриилом. К тому времени они уже переселились в ипотечную квартиру, приобрели кое-какую мебель, но Маша сетовала на постоянное отстуствие мужа дома:
– Ты то на службе, то на каких-то беседах и прогулках! А мне каково здесь справляться одной?! Вчера Гавриил орал весь вечер, никак не могла успокоить! Твои родители далеко, моя мама болеет, не может помочь!
Семён понимал, что она права, но ребят бросать не хотел и не мог.
– Я дам тебе помощницу, – сказал он. – Хорошая девушка, педагог. А может, и не одну.
Маша упрямо говорила, что не хочет пускать чужих людей в свой дом, но в конце концов согласилась. Полина, работавшая воспитателем в частном садике, в свободное время стала приходить и нянчиться с Гавриилом, пока Маша бегала за покупками и по другим делам. Иногда бывала и другая помощница: средних лет женщина по имени Наталья, которую Семён про себя прозвал Натальей-огородницей, потому что две трети разговоров у неё сводилась к даче. Наедине с женой Семён подшучивал над Натальиным огородным фанатизмом, но в целом был признателен за помощь и явное уважение к сану батюшки. Маша предпочитала в качестве помощницы Полину, которую ценила за ненавязчивость: та вмешивалась ровно настолько, насколько это было нужно, никогда без спроса не брала чужие вещи.
Насчёт помощи Семён не обманул, но Маше всё равно было обидно, что муж развлекается где-то на стороне, пусть даже в невинном характере его развлечений она была уверена абсолютно.
– Пойдём, побудешь с нами, – сказал ей однажды Семён.
– Как я пойду?! Гавриилу полтора года, Агнии шесть месяцев.
– Ногами. Девочки помогут тебе.
– Ты себя слышишь?! Как я могу доверить двоих маленьких детей чужим людям?
Семён нахмурился, оперся ладонью о стену и проговорил, не глядя на жену:
– Это не чужие люди, Маш. Это моя паства. Я священник. И они всегда будут в моей жизни.
– А я? А дети? – спросила Мария уже без напора.
– Вы тоже, конечно. Я венчался с тобой. Значит, дал обещание делать лучше твою жизнь, как могу. Но я ещё и священник. Значит, у меня две семьи… Нет! Нет, одна большая семья. Или, если тебе так не нравится, всё это наши друзья.
– Прямо уж друзья?.. И я могу им доверять?
Семён помолчал секунду.
– Да, можешь. Доверять можно научиться всем. И нужно. Не жалуйся, Маш. Правда. Я не бросаю тебя. Видишь, взяли же мы квартиру в ипотеку. И машина есть. Я всегда с тобой. Просто я – это не только Сёмка Махов, а что-то большее. Точно говорю – присоединяйся к нам. С детьми помогут. Увидишь, какие классные подтянулись ребята! Тебе как интеллигентной девушке интересно будет с ними пообщаться.
– Хорошо…
И всё-таки в первый раз она пришла на встречу только через пять месяцев, в ноябре, когда Агния потихоньку начала ходить.
***
Клуб оставался в прежнем составе, встречи шли своим чередом, но Семён остро чувствовал: ещё немного – и всё схлопнется, рассыплется. Никакая система не может существовать без развития, а куда двигаться дальше после чаепитий, кино и волейбола, Семён не знал. Православный театр тоже не был хорошим вариантом: спектакли, точнее, кустарные инсценировки, ставились в доме престарелых только два раза в год (к Рождеству и Пасхе), да и участвовали в них немногие.
Семён понимал, что ходит по кругу. Несколько человек из клуба – среди них были и взрослые, и молодёжь – ушли не прощаясь, перестали ходить на встречи, а пару человек больше не было видно и на службах. Отец Александр не видел в этом никакой трагедии, успокоительно гудел:
– Одни ушли, другие придут. Наше дело маленькое: встречать их, вводить в курс церковной жизни. Господь Сам ведёт, мы просто направляем.
Семён был уже близок к тому, чтобы согласиться с наставником, но однажды на приходе случилась беда – у женщины, совсем ещё молодой, умер муж и пятилетняя дочка. Отец Александр привёл её на собрание клуба и сам коротко пересказал цепь случившегося: авария, больница, смерть, трагедия, нужда. Женщина стояла рядом с ним и, хотя не произносила ни слова, очевидно ждала помощи. Саша-звонарь после недолгих колебаний вытянул из кармана джинсов тясячу. Ещё два человека скинулись по пятьсот рублей. Одна девушка, мучаясь неловкостью, вытащила стольник. Женщина не менее смущённо приняла деньги, шёпотом поблагодарила всех, отцу Александру зачем-то отвесила неглубокий поклон. Лицо у неё было восковое, на левом виске полукругом означался тёмно-розовый шрам, левая бровь рассечена и зашита. Через пять минут о её присутствии все забыли, встреча потекла своим чередом. Когда народ стал расходиться, Семён остановил вдову возле дверей:
– Напомните, как вас зовут?
– Олеся. Батурина Олеся.
– А я, если что, отец Семён. Давно вы в церкви?
– Нет, что вы… Знаете, как только это случилось, я и пришла… Две недели назад.
– Понятно, – сказал Семён, хотя понятного для него было мало. – Олеся, вы, главное, не теряйтесь. Записывайте мой телефон. У нас бывают такие…скажем, более неформальные встречи. Общение… У нас есть группа Вконтакте и в Вайбере.
– Спасибо, – проговорила Олеся без всяких эмоций.
Семён уже успел подумать, что она уйдёт и больше навряд ли вернётся, как внезапно услышал:
– Мне очень нужна поддержка. Я сейчас совсем одна. Даже работы пока нет.
– Вот, вот… Звоните, если что. Обязательно звоните, – Семён многозначительно прищурил глаз и указал пальцем вначале на Олесю, потом на себя. – Человек один не может.
Она позвонила через пару дней, спросила, что почитать для подготовки к исповеди. Семён посоветовал: «Возьмите Иоанна Крестьянкина. Но главное – не лукавьте и не оправдывайте себя». На исповеди Олеся не появлялась, и Семён снова начал думать, что все разговоры с ней были впустую, как вдруг она написала ему Вконтакте: «Спасибо вам за поддержку. Я исповедовалась в храме возле моей бывшей работы. Полегчало, посветлело на душе».
– Бог ты мой! – Семён хлопнул себя по колену. – Что она творит? Почему пошла не пойми куда?!
Пару минут он всерьёз сердился на вдову, но внутренний голос ясно говорил ему, что она поступила так от незнания. Более того, навряд ли даже Катя, Полина, Дима или Саша-звонарь, два-три года ходящие на службы и в клуб, понимали, что церковь – это община, и перед ней надо нести обязательства. Они уже были готовы развлекаться вместе, и хоть этим выгодно отличались от тех, кто годами столбом стоял в храме и не делал попыток узнать других так же стоящих. Но они всё ещё не хотели разделить бремя ближнего. Только откупиться тысячей. Да даже пятью тысячами, лишь бы не вникать в чужую боль. А Олесе было нужно именно это – взять часть её тяжёлой ноши, исполнить закон Христов.
Следующую встречу клуба, где должна была собраться только его паства, Семён отменил: ему нужно было время на раздумья и молитву. А потом настоятель позвал его к себе и сказал, что через неделю нужно ехать в Москву на конференцию, посвящённую миссии и катехизации.
Настроение у Семёна было разбитное, ухарское. Ему хотелось хоть на три дня сбросить с плеч всякие обязательства – пастырские, отцовские, супружеские, превратится в беззаботного студента. Вместе с ним из Красноярска летели двое: спокойный и вроде ничем не примечательный отец Николай, уже виденный Семёном на службах, и другой, молодой, с серьёзным, даже пасмурным взглядом карих глаз.
Этот второй приковал внимание Семёна с первых минут знакомства. Оказалось, что его зовут Андрей, и он не священник, а только диакон. Роста он был среднего, крепостью телосложения не отличался – наоборот, в его облике сквозило что-то хрупкое, женственное, особенно если учесть распущенные каштановые волосы до плеч, лежавшие мягкими волнами. Но его взгляд дышал уверенностью, а, когда Андрей стал рассказывать о положении дел у себя на приходе, Семён почувствовал в нём родного.
Обратно они летели, сидя на соседних креслах.
– Так ты говоришь, надо проводить длительную катехизацию? – уточнил Семён зародившийся у них пару часов назад план.
– Только так. Две-три встречи перед крещением ребёнка или своим крещением ничего не значат. Человеческая природа – падшая, разумеется – такова, что везде ищет халявы. Люди будут проходить эти предкрещальные беседы для галочки. И сейчас проходят. Вариант у нас один: перестроить эту падшую природу, переформатировать, чтобы люди научились отдавать, а не только брать. И конечно, это должна быть не учёба в академическом смысле. Ну, вернее, не только .
– Ну да, главное – общение, взаимопомощь.
– Больше. Создание братства. Читал, какая была община у Ванье во Франции? А у Дитриха Бонхёффера?
– Нет, это не знаю…
– Ну, тогда возьмём первых христиан. Ведь они делились друг с другом всем! После Пятидесятницы все стены рухнули. Помнишь? «Нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания; варвара, скифа, раба, свободного…»
– «Но везде и во всём Христос», – закончил Семён. – И у нас будут все? Я думал, только молодёжь.
– Молодёжь в авангарде, но подтянутся и остальные. Главное – основать братство. Не клуб, не богословско-катехизаторские курсы, как нам тут посоветовали на конференции. То есть можно поначалу, для вида. Но вообще нужно братство. Только оно. Ты сам-то готов к такой жизни? Настоящей, христианской?
– Я готов! – Семён оглянулся назад, проверив, не прислушиваются ли к ним люди. – Жена вот – не знаю… Только это, надо ведь у митрополита благословение брать?
– Возьмём, – твёрдо проговорил Андрей. – Прилетим, пойдёшь и возьмёшь.
– Я? – Семён удивился не столько тому, что придётся идти к владыке, сколько уверенности Андрея, мгновенно отдавшего распоряжение. – Да ты дерзкий, парень! Что бы сам не пошёл?
– Можно и я, но лучше ты, как иерей, будет солидней. Если хочешь, пойду с тобой для моральной поддержки.
– Вот уж нет, я большой мальчик, схожу сам, – усмехнулся Семён.
Митрополит принял его ровно через неделю. Подходя к двери церковного начальника, Семён медленно перекрестился, прочёл про себя «Отче наш». Семён заранее приготовился принять и согласие, и отказ, но больше предполагал, что владыка откажет. Уж больно сомнительным их с Андрюхой мероприятие выглядело со стороны: два молодых батюшки, программа оглашения на целых полтора года, закрытые группы…
Митрополит приветствовал Семёна ласково, с хитринкой улыбнулся, огладил висевшую на груди панагию:
– Ну-с, что хотят устроить молодые батюшки, желающие быть поближе к людям?
Семён начал рассказывать о конференции в Москве и при этом хотел слегка подольстить митрополиту, упомянув о его демократичности и близости к пастве, которую все успели разглядеть за те три месяца, что он управлял епархией. Но язык отказывался произносить хоть сколько-нибудь фальшивую, неискреннюю мысль. Хотя новый митрополит со своей улыбкой и ленинским прищуром впрямь казался душевным, располагающим к себе.
– Да, мы на смене, так сказать, эпох. – взял слово владыка. – Если в советском периоде люди были приучены ходить в храм лишь на исповедь и причастие, то сегодня мы наблюдаем, как люди хотят большего. И в советское время были верующие, были подвижники. Но сегодня условий для них больше! От потребительской модели надо нам отойти. Пришёл в храм, взял причастие, или просто купил свечку, ушёл – от этого надо отойти. Храм должен быть домом! Домом Божьим, в первую очередь. Но и домом человека. Православный храм – это место, где собирается Божий народ. Это святое место! И его надо любить.
Семён слушал владыку с волнением, но не мог пока что понять, куда он клонит и, главное, одобрит ли в итоге огласительные встречи. Митрополит ещё несколько минут восхвалял православие, затем древние церкви, и, когда Семён уже начал думать, что ничего не выйдет, сказал:
– Опыт древних церквей, прекрасный общинный опыт надо возрождать. То же самое скажу и об опыте кровавого двадцатого века. Имею в виду наших новомучеников, тех, кто сидел в сталинских лагерях. Беда их подлинно сплотила! Превратила в народ Божий. И сегодня нам надобно создавать Божий народ. И вы, отец Симеон, как молодой пророк Исайя, говорите Господу: «Вот я! Поставь меня».
– Да, говорю…дерзаю, – подхватил Семён. – Я и мой друг.
– Да, да, вы, конечно, не один. Братство – это прекрасно! Молодёжное братство! Как мы его назовём?
У Семёна от неожиданности даже перехватило дыхание: о такой простой вещи, как название, они с Андреем и не подумали.
– «Благодарение», – выдал он через секунду.
– Как? – не понял митрополит.
– «Благодарение», владыка. Просто это перевод слова «евхаристия».
– Правда? Нет, это не очень подходит… Это по-американски. А вот как у нас переводится слово «литургия»?
Семён не понял, спрашивает ли это митрополит потому, что не знает, или потому, что хочет устроить проверку:
– «Литургия», ваше высокопреосвященство, переводится как «общее дело».
– Вот! – митрополит торжествующе вскинул голову. – У нас будет православное братство «Общее дело». Его членами станут прихожане Введенского собора.
– И не только, владыка, – решился добавить Семён.
– И не только, – примирительно дозволил митрополит. – Обязательно в рамках братства катехизация на полтора года, или даже два, как было в древних церквях. Остальное ты мне пропишешь в уставе. Твоя задача будет сделать устав братства. Прописать там, кто имеет право входить. Цели, задачи. Программу. Всё, как писал в институте. Делал в институте проекты?
– Ну да…
– Ну вот… И тут сделай. Держи наготове.
Глава 3. Соня
До шестого класса Соня Бавина была довольно равнодушна к английскому. В восемь лет её, правда, искренне удивил тот факт, что в других странах живут иные люди, которые простой и нужный хлеб называют почему-то «брэд», а вместо звенящего «солнце» говорят коротко «сан».
Но когда в середине шестого Сониного учебного года в их класс пришёл Серёжа, всё изменилось резко и глубоко. Сразу многое привлекло Соню к этому мальчику: ясные голубые глаза и русые кудри, живость и ловкость движений, но главное – всегдашняя доброжелательность, которой у Серёжи было с избытком. Некоторые ребята посмеивались, слыша, как новенький обращается к учителям: «Не могли бы вы?», а к однокласснику: «Подскажи, будь другом». Серёжина изысканная вежливость была так непохожа на лающую скороговорку Сониного отца и старшего брата, что Соня стала испытывать к новенькому мальчику не просто уважение, а нежное благоговейное чувство. Она не смела помыслить о том, чтобы у них дома тоже разговаривали так бережно и красиво, и поэтому только мечтала хотя бы раз увидеть родителей Серёжи, которых представляла себе кем-то вроде сказочных короля с королевой.
Классная руководительница то ли случайно, то ли о чём-то догадавшись, вскоре посадила Соню вместе с Серёжей. В первые дни после этого Соня ещё мало говорила с новеньким, а когда перестала бояться, что стук её сердца окажется громче слов, стала расспрашивать его о прежней школе, о родителях. Он охотно отвечал ей. Соня рассказывала о маме и Витьке, младшем брате, а папу и старшего брата Сашку, который уже заканчивал школу, лишь упоминала вскользь.
Вскоре Сонино желание сбылось: она побывала дома у Серёжи. Его мама оказалась учителем английского и предстала в глазах Сони утончённой красавицей. Она разговаривала так же вежливо, как Серёжа, никогда не ругала Соню за то, она приходит и отвлекает её ребёнка от уроков (на это жаловались родители одной Сониной подружки). Соня через каких-то полгода стала в доме своей, и охотно вызывалась помочь, если нужно было прибраться на столе, сходить в магазин, расчесать длинную шерсть болонке Бусе.
Отец у Серёжи давно ушёл. Вместо него иногда приходил дедушка, который говорил о политике, о каких-то адмиралах, о царской семье. Чем старше становилась Соня, тем лучше она понимала эти стариковские рассуждения, а иногда и соглашалась с ними, радостно слыша в свой адрес что-то вроде: «Да, милая моя девочка». У Сони дедушки не было, только бабушка, которая по пятницам приходила встречать выходные с отцом, а субботним утром бегала за водкой. Поэтому на дедушку друга Соня смотрела как на редкую ценность, почему-то дарованную Серёже. Впрочем, Соня считала, что её друг достоин всего самого лучшего, потому что он не такой, как все, он будто пришёл из страны Терабитии, а, может, упал с неба, как Ивейн в фильме «Звёздная пыль».
Серёжа любил маму и всё, что связано с ней. Соня больше всего любила Серёжу и всё, что принадлежит ему, что увлекает его и дорого для него. Среди этих ценностей был английский – Серёжа занимался им по школьному учебнику, по старому советскому учебнику, по загрузочному диску с аудиозаписями. Иногда мама Вера читала им стихи Блейка и Шекспира в оригинале, и Соня таяла от двойного восторга: перед Серёжиной мамой и перед открывшейся красотой иного языка. Соня влюбилась в английский почти так же сильно, как в Серёжу. Особенно сильно ей нравилось читать на уроках вслух. Вначале она делала ошибки и немного смущалась этим, но при всяком удобном случае стремилась прочитать в классе перевод из домашнего задания, реплики в диалоге, а лучше всего – стихотворение. Дома Соня тоже читала вслух, напевала песни Аврил Лавин и Backstreet boys, но была особая прелесть в том, чтобы разговаривать на английском в классе, когда тебя слышат все, и когда учительница – неласковая пожилая женщина с голубыми острыми глазами – при всех назовёт тебя умницей и станет улыбаться тебе одной, а Серёжа, сидящий за соседней партой, покажет большой палец вверх.
Школу как таковую Соня не очень любила. Одноклассницы часто делали ей колкие замечания из-за немодной старой одежды, не хотели брать к себе в группу, если на уроке была коллективная работа, не садились рядом с ней в столовой. Мальчики относились терпимее, но и в их глазах Соня иной раз читала что-то вроде оскорбительной жалости. Обиднее всего был поступок классной руководительницы, которая однажды при всех обозвала Соню воровкой. Та действительно украла с учительского стола апельсин – и тут же неловко попалась на месте. Учительница не попыталась поговорить с ней наедине, войти в положение, проявить снисходительность. Она опозорила ее при всех и написала докладную завучу. К счастью, последняя оказалась добрее и после долгого душевного разговора взяла с Сони обещание, что больше та не станет брать чужого без спроса.
Обещание за школьные годы было нарушено только один раз, когда Соня в четырнадцать лет не удержалась от соблазна поднять с пола уроненные кем-то пятьсот рублей. Отец в то время снова скатился в запой, и она решила приберечь эти деньги себе на дорогу или обеды. В то время она часто делала уроки в библиотеке, где царила тишина и никто не мешал погрузиться в учебу. Ее успехи в английском, русском, истории возрастали и давали возможность уважать саму себя. Она радовалась похвалам учителей, но больше всего желала, чтобы ее труды оценил Сережа и его такая умная мама.
Соня ходила к нему домой два или три раза в неделю. Отец, когда был пьян, конечно, не спрашивал, куда Соня исчезает после уроков, а мама со всегдашней виноватой улыбкой только говорила, чтобы дочь не слишком злоупотребляла гостеприимством таких хороших людей. Но когда ее муж начинал выходить из запоя и делался злей цепной собаки, запуганная мать боялась чем-нибудь раздражить его и сейчас же звонила дочке на сотовый, стоило той задержаться после школы больше, чем на полчаса. Соня сама знала, что трезвеющего отца лучше не трогать, и, пытаясь защитить маму от его нападок, усердней обычного мыла посуду, протирала полы в комнатах и коридоре.
Соня до последнего не хотела признаваться другу в том, что отец пьет, и приводила Сережу домой лишь в те дни, когда родителя не было дома. Но в конце восьмого класса он окончательно понял все сам, просто однажды зайдя к своей подруге в неурочный момент. В тот раз она попыталась вытолкнуть его в подъезд, кричала что-то невразумительное, а после его ухода обессилено скатилась в угол к стене и заплакала, считая, что их дружбе пришел конец. Но Сережа на другой же день заявил, что все остается по-прежнему.
Так оно и было до их пятнадцати с половиной лет. Но после недельного зимнего отдыха в загородном лагере Сережа вдруг вернулся совсем другим: веселым, дерзким, с какой-то бесстыжинкой в глазах и красными прядями в прическе. Соня глядела на него с удивлением и даже, вопреки своим ожиданиям, не умерла от радости, когда Серёжа наконец поцеловал её в ждущие полураскрытые губы. Разум говорил Соне, что надо всегда быть настороже, и какое-то время она убирала со своих колен Серёжины руки и настойчиво уклонялась от его объятий. Но однажды весной, когда отец был в глубоком запое, а мама, выпив накануне бутылку, уехала с подружкой в бар отмечать её день рождения, Соню пронзило таким чувством отвращения к обоим родителям и даже к спящему в грязной футболке брату, что она была готова на всё, только бы хоть на короткое время вырваться из этой пропахшей сыростью и перегаром серой коробки. Пусть даже у Серёжи квартира была, по большому счёту, такая же серая, главное, что ярким был он сам. Соне вдруг стало оскорбительно мало всего лишь слушать с ним Stigmata и Оригами и смотреть, как он вместе с друзьями разрисовывает бетонные стены на набережной. Мало кататься с ним на скейте. Мало смотреть в пятый раз фильм «Реквием по мечте». Ей хотелось быть с Серёжей каждую секунду своей жизни.
Он знал о ней совсем всё, знал, что она из такой семьи, пусть и учится хорошо, и любит английский, и по виду никак не скажешь…
В мечтах она представляла себя и Сережу Джоэлем и Клэм из фильма «Вечное сияние чистого разума», когда они лежали вдвоем на озере и не боялись, что лед под ними может сломаться.
Однажды она выскользнула из дома ночью, постучалась к нему в окно на первом этаже, и, хотя именно в тот раз еще ничего не случилось, Соня понимала, что теперь это просто дело времени.
***
Через пару месяцев они стали совсем близки. Вежливость и деликатность Сережиной мамы выразились в том, что она усердно делала вид, будто ничего не понимает, и беседовала с «ребятками» так же мило, как раньше. Серёжа не раз предлагал подруге остаться у него ночевать. Но Соня меньше всего хотела подводить свою маму, на которую отец и так однажды поднял руку за то, что дочка «шляется незнамо где».
– Когда она нужна мне, так её нет! – злился папаша. – По парням пошла шастать! Знаю я этих парней. А всё ты! – замахивался он на мать. – Чему ты её научила? Вечно придёшь с работы и спишь, как корова. Как ты ещё в деревне жила?! Там такие ленивые, как ты, с голоду дохнут.

