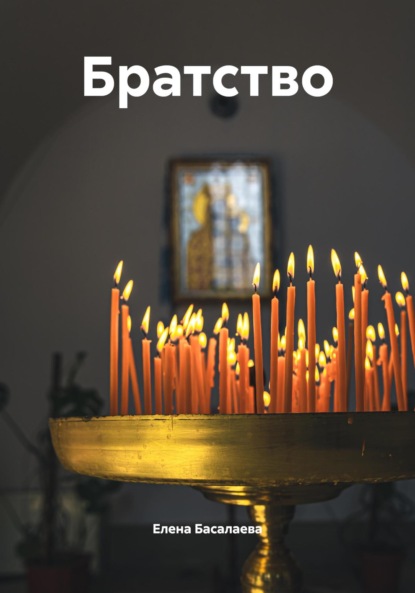
Полная версия:
Братство
В девятом классе младший Махов уже знал, что будет священником. Филарет, давно перебесившийся, работал инженером-вахтовиком и пару лет назад женился на своей сожительнице, скромной, молчаливой девушке, которую Семён находил откровенно неинтересной. Иван тоже был женат, работал в Институте физики вместе с отцом и с ним же почти каждое воскресенье ходил на службу, пономарствовал, изредка даже пел. Мать на словах гордилась своими старшими, но когда Семён ей первой объявил, что видит себя только пастырем и будет поступать в семинарию, она не удержалась от радостного вскрика.
Школу Семён окончил с золотой медалью, с похвальным листом. Отец и дядя советовали ехать учиться в Томск, чтобы поближе, и сразу рассчитывали, что потом новоиспечённый батюшка вернётся домой, в ачинский собор Казанской иконы Богоматери. Дядя заранее обещал сделать всё возможное, чтобы Семён не попал в глухую деревню, а служил в самом городе, в крайнем случае, в другом храме. Семён слушал отца и дядю с благодарной улыбкой, но уже знал, что, окончив семинарию, приедет в краевой центр – Красноярск. И пыльный Ачинск с его многометровыми трубами глинозёмного комбината, и местная низенькая церковь, и сам дядя уже представлялись ему чем-то затрапезным, уездным, жалким. Учителя всегда хвалили Семёна, и он не мог не видеть, что на голову выше других, что наделён даром слова, великолепной памятью, быстрым умом. И он говорил себе, что должен отдать это отпущенное ему богатство людям.
Остановились в итоге на Тобольске. Первая ночь в поезде, идущем до старинного сибирского города, прошла почти без сна. Перед уставшим Семёном проносились картины будущего: вот он выступает на сцене перед полным залом, вот идёт вперед крёстного хода с красной пасхальной свечой, вот перелистывает книгу, на обложке которой значится его имя… Только к утру Семён забылся прерывистой дрёмой, и словно бы издали слышал чьё-то ворчание – кто-то задел головой его длинные ноги, торчащие из прохода.
Семён знал, что семинария внешне похожа скорее на казарму, чем на Сорбонну, и всё-таки ждал, что по приезду погрузится в общество вагантов, ожидал от семинарской жизни студенческого кипения, бесед, дискуссий, подготовки к будущему «хождению в народ», каким видел Семён своё пастырство. Дядя не учился в семинарии даже заочно, потому как стал священником в девяностые, когда в батюшки с радостью были готовы принять всех, кто исповедовал Троицу и носил на груди крест. Всю пастырскую науку дядя Володя постигал сам, как умел, и, хотя Семён искренне уважал брата своего отца, считал, что сам должен стать куда как более продвинутым батюшкой.
Реальность разбила его мечтания ещё на вступительных экзаменах. Большинство поступающих имело такой хмурый или растерянно-глупый вид, что Семёна передёрнуло. Результат экзамена поразил его ещё больше: сочинение большинство будущих семинаристов были написаны отвратительно – парни не могли связать двух слов. При этом на курс почему-то приняли почти всех, кто имел хотя бы тройку за ЕГЭ по русскому языку. Семён смотрел на однокашников с недоумением: как они, эти косноязычные невежды, будут нести слово Божье людям?! Никогда не имея трудностей в общении, он непринуждённо болтал со всеми парнями, с лёгкостью высмеивал их незнание тех или иных вещей и благодаря прекрасному чувству юмора не наживал врагов, а скорее приобретал поклонников. Он улыбался всем, но искренне уважал только двух-трёх семинаристов и стольких же преподавателей.
Через полгода Семён захотел сбежать. Его тошнило от того, что приходилось каждый день долбить элементарщину, вроде «жи-ши» и чередования гласных в корне. Катехизис и библейская история тоже казались Семёну такими азами, которые должен был освоить каждый мало-мальски старательный ученик воскресной школы. С преподавателями было едва ли лучше: когда он с детства участвовал в приходской жизни, то думал, что самые негибкие, застрявшие в позапрошлом веке батюшки – необразованные, пришедшие прямо из мира в сан. Но в семинарии, как казалось Семёну на первом курсе, было полно образованных солдафонов, которые все полученные знания применяли для бюрократического удушения семинаристов. По каждому промаху нужно было писать объяснительную. Опоздал, проспал, не выучил, оказался после девяти вечера за пределами семинарии, паче того с девчонками из регентской школы – на каждый случай начальство требовало письменных объяснений. В первые полгода Семён честно обвинял всех – и подставивших его однокашников, и ещё больше – семинарскую администрацию, которая непонятно по каким причинам напридумывала идиотских законов вроде запрета стирать после отбоя. И к январю, к зимним каникулам, он выдохся.
– Дядя Володя, я больше не могу, – заявил он дома. – Вам повезло, что вы не были в этом аду. Столько зашоренных людей. Я даже подумал, честно говоря, не податься ли мне в протестанты, чтобы без этого всего…
Семён на всю жизнь запомнил, что обычно спокойный дядя в тот раз посерел лицом и встал во весь рост:
– Я тебе отец Владимир! И послушай-ка меня, овца заблудшая… Тебе дана великая возможность пройти настоящую школу. А ты пока что к ней даже не приступал!
– Почему не приступал? Я как раньше учился отлично, так и сейчас…
– Дурак! Господь так устроил, что люди исправляются от людей же… Твоя школа – не книжки, не история с русским, а общение с людьми. Через них ты будешь обтёсываться… И начальство не вздумай ругать. Хорошее, плохое – оно тебе на благо. Ты думал, по святым местам всё время будете, что ли, ездить?!
Дядя Володя ворчал ещё долго, причём его полностью поддерживал отец, а мать, которая во всё время их беседы молчала, потом подошла и сказала самое важное и страшное:
– Сёмушка, ты не должен возвращаться. Ты не имеешь права. Ведь ещё в девятом классе ты почувствовал, что Бог избрал тебя пастырем. Так что поезжай в семинарию и обратно не приезжай.
– В смысле, мама?! – вырвалось тогда у Семёна.
– Только так. И не сердись на дядю Володю, что ругается, я ведь всегда тебе говорила: перехваливать нельзя, лучше недохвалить.
Семён знал, что мать никогда не шутит, и, садясь на поезд, всё ещё злился на неё. Однако дороги назад действительно не было, и ему пришлось принять то, что отныне семинария стала его реальностью, его домом, его храмом. Настоящая учёба началась, пожалуй, с картошки. Дежурный помощник разбудил всех пол-одиннадцатого и выгнал разгружать машину, которая привезла еду. Многие ворчали, хотели спать, но Семён, тоже боровшийся с желанием бухнуться обратно на койку, с показной бодростью принимал мешки. Через полчаса он вернулся в келью и уже разделся, как дежурный постучался снова: оказывается, пришла ещё одна машина. Семён так рассердился, что швырнул тряпки в угол и проорал ругательство. Но таких машин уже на первом курсе оказалось не одна и не две. В другой раз он элегантно переложил предназначенный ему мешок на плечи скромного однокурсника, но дежурный, заметив это, грубо одёрнул и накинул ещё пару мешков. Семён позднее так и осмыслил это – пытаясь перекинуть свой груз на другого, получаешь от Господа пару нарядов вне очереди.
На втором курсе учёба стала интересней, но у Семёна появилось чувство, что на самом деле она всторостепенна. Это чувство возникло не сразу: поначалу он сильно раздражался на своих однокашников, которые приходили в читальный зал и ржали над какими-то глупыми шутками, мешая заниматься. Не сразу он заметил яд человеконенавистничества, копившийся в нём: книга была для него дороже людей, и стала дороже давно. И Семён, к собственному удивлению, перестал учиться так старательно, как раньше. Он отодвигал чтение, чтобы помочь на кухне, чтобы подсказать задание соседу, ещё чаще – чтобы просто послушать очередную байку и посмеяться со всеми. Он был на уроках всегда – и на вахте, и на картошке, и на церковных службах. Хорошая память никуда не делась, но к ней добавилось что-то ещё, неосознанное и неназванное, что помогало впитывать знания отовсюду.
К третьему курсу Семён понял, что располагает массой свободного времени – только потому, что научился правильно строить свой день. Тогда он вспомнил о своём желании писать и выступать, и попросил у руководства разрешения поступить в светский вуз. Многие семинаристы, прежние и нынешние, шли на истфак. Но Семён выбрал филологию. Первой книгой, которую он прочитал ещё в одиннадцатом классе и которая заставила его почувствовать бытие нетварного мира, была фантастическая повесть Юлии Вознесенской «Мои посмертные приключения». Семён, знакомый к своим девятнадцати годам с Иларионом Алфеевым, Антонием Сурожским и Софронием Сахаровым, наинежнейшую симпатию питал именно к этой приключенческой, почти что детской книге. В глубине души ему хотелось самому стать таким же писателем-миссионером, как Вознесенская. И он поступил на филологический факультет.
Читать Махов умел быстро, осиливал одну книгу за три – четыре часа. Но ещё почти столько же времени занимало её осмысление. Особенно много Семён думал об авторах: что они были за люди, о чём размышляли наедине с собой, чего боялись? Последнее казалось ему самым важным: скажи, чего боится человек – и я отвечу, о чём он будет писать.
***
Филфак стал для Семёна радостью – радостью возвращения к простоте. Какой бы многогранной и многослойной ни была художка, Махов понимал, что по сравнению с богословскими трудами Трубецкого, Зеньковского, Хомякова, а тем более Иоанна Дамаскина или Григория Паламы любой роман или повесть – умилительная забава, детский простодушный способ смотреть на вещи через картинки, через образы. Из богословского Семёну пошёл впрок один митрополит Иларион Алфеев с его книжицей «Во что я верю». Всё остальное вызывало отторжение и читалось только бегло, через силу. Однажды Махов понял, что ему, как это ни удивительно, сложно поверить богословам: сложно вместить, что они могли и беседовать с Богом в простоте, и рассуждать о нём в туманных схоластических терминах. Казалось очевидным – зачем эти пространные умозаключения, если Бог просто есть, просто жив, так же, как жив ты сам, и вы радуетесь бытию друг друга?
Прочитав «Братьев Карамазовых» Достоевского, Семён, во-первых, окончательно убедился, что богословие появляется там, где ослабевает вера, а, во-вторых, сам загорелся мечтой стать монахом. Преподы, если упоминали монашество, то и дело кивали на святых отцов, но Семён уже относился к любому вероучительному чтению довольно скептически. Он говорил себе, что главное – трудиться и молиться, жить скромно, желать мира для всех. Волей-неволей вспоминалось, что такую философию пытался исповедовать не слишком любимый Семёном Лев Толстой, но Махов предпочёл скорее полюбить Толстого, чем отказаться от своих взглядов. В конце концов, не вина же Льва Николаевича, что он только в старости додумался до того, к чему Семён пришёл в свои неполные двадцать?..
Как раз раз в это время на курсе появился новый преподаватель по догматическому богословию: широкий, с рублеными чертами лица, большими кистями-граблями, мужиковатого вида. Ребята так его и прозвали – Мужик, и в этом прозвище было больше уважения, чем насмешки. В простоте и уверенности нового наставника таилась такая притягательность, что уже через неделю ноги сами привели Семёна прямо к этому преподу, а язык произнёс сокровенное:
– Отче! Знаете, я подумал – не стать ли мне монахом? Как вы считаете?
Мужик смерил Семёна внимательным взглядом, будто столяр, прикидывающий, какая деталь получится из доски:
– Как тебя зовут, Зигфрид?
– Семён, – напомнил Махов.
– Так вот, Сёма, выбрось это из головы. Я, как человек опытный, скажу тебе – четырёх детей родишь. Жену уже подыскивай, тяжело, поди.
– Тяжело, – согласился Семён, сразу сообразив, о чём это говорит Мужик.
– Моя бы воля, я вообще бы целибат и безбрачие отменил. Глядишь, меньше голубых было бы. Сказано же в Писании: епископ да будет непорочен, одной жены муж… И нечего придумывать бремена неудобоносимые.
– Но кто-то ведь может вместить, – воспротивился Семён.
– Вот ты, Сёма – ты не можешь, – отрезал Мужик. – А о других не думай. Они сами разберутся. Ты жену подыскивай, чтобы потом абы на ком не жениться наспех, когда рукополагаться надо. Знаешь, как проверяй? Представь её лысой и больной. Такой лежачей, которая под себя ходит… Если не противно – значит, можно жениться, верным будешь. Понял?
– Вполне.
– А ещё, Сёма, тебе нужны люди. И тушёнка. Монашество – не твоё. Для другого тебя Господь создал.
– Для проповеди? – встрепенулся Семён, ожидая услышать вожделенное «да».
Но Мужик, будто внезапно потеряв дар прозорливости, только пожал плечами:
– Не знаю. Может быть.
Семён всей душой прикипел к этому батьке. Лекции у него были не особенно интересные, в основном читаемые по учебникам девятнадцатого века. Но иногда Мужик рассказывал байки о своей пастырской службе или пересказывал грубоватым народным языком евангельские сюжеты. И тогда Семён и другие ребята вспоминали, что христианство – гораздо больше о радости и надежде, чем о страхе.
– И говорит Христос тому расслабленному: хватит ныть! Забери свой ссаный матрас и иди!
– Марфа хорошая была баба, но зацикленная. Как втемяшится что ей в голову – туши свет. Вот и тут она заладила своё: если б ты вовремя пришёл, не умер бы брат мой! Господь ей и говорит: дура! Я есмь воскресение и жизнь!
– А однажды, братишечки, мы бомжей кормили. Они в дверь царапались, скулили, и мы с дьяконом вынесли им целую кастрюлю борща. Две минуты не прошло – открывает дверь ихняя атаманша, пьяненькая такая пожилая бомжиха: «А теперь втор-рое и компот!» О чём притча сия? О том, что милосердие – не всегда хорошо.
– Человеки на исповедь приходят странные. Чего только не выслушаете! Тут намедни пришла ко мне одна и говорит: ой, батюшка, ко мне кошки привязываются, на колени садятся. Не грех ли это? Да не грех, говорю, лишь бы кобели бешеные не запрыгивали!
Семён вскоре поймал себя на том, что пытается шутить так же, как Мужик, но в силу возраста или воспитания всё-таки выражается более интеллектуально. Он беззлобно поддевал салаг с первого курса, всегда имея при себе запас шуток типа «первая заповедь – плодитесь и размножайтесь в поте лица своего», научился забавно передразнивать преподавателей и в конце концов стал признанным душой компании.
С девушками ему было чуть сложней. Большинство семинаристов встречались с регентшами, хотя между собой поругивали их за некую заносчивость. Семён непринуждённо входил в комнату к девушкам, шутил, с удовольствием отмечал, что в нём сто восемьдесят семь сантиметров роста, что он бегает стометровку за двенадцать секунд и учится на пятёрки – ну, просто так получается. Девчонки хихикали, кокетничали, Семён иной раз поднимал их на кровать, кружил тех, кто помельче, и чувствовал, как по жилам переливается огонь. От блудных мыслей отвлекала только адская усталость – ну и, конечно, отсутствие всяческих условий: воплощать фантазии в жизнь не было ни места, ни времени. Большинство довольствовались невинными вечерними прогулками под любопытными взглядами товарищей и преподавателей.
Но у Семёна был филфак, и была сессия – а, значит, отгулы. В начале четвёртого курса они стали встречаться с клирошанкой Ирой, и, стоило обоим оказаться за стенами семинарии. Семён почувствовал, что попросту тонет в её бездонных глазах. Ира смотрела на него с обожанием, окутывала нежностью, и Семён не устоял – инициировал приглашение к девушке домой, где они зашли довольно далеко – достаточно, чтобы считать себя связанными некими обязательствами. Ира, во всяком случае, явно приняла их на себя, потому что стала проявлять усиленную заботу о Семёне – связала ему свитер, купила несколько пар носков, устроила совместный ужин со своими родителями. Семён и тут шутил, балагурил, чувствуя, как в глубине души ему становится тошно от самого себя. Он умудрялся снова и снова производить хорошее впечатление, хотя понимал, что не достоин его. Ира была не то, чтобы скучной, а слишком непритязательной и всем довольной. Семён понял, что нуждается в ком-то, кто бы двигал его по жизни вперёд и вперёд. Раздумывая о том, стоит ли продолжать отношения с Ирой, он вынужден был признать, что мог бы бросить семинарию, если бы не строгий запрет матери возвращаться домой. Прочитать «Братьев Карамазовых» его заставила сессия на филфаке, научиться ладить с соседями – четырёхлетнее сосуществование бок о бок. Да, он любил преодолевать трудности, даже созданные искусственно. Но Ира была как раз тем человеком, который не создавал, а убирал все трудности с его пути. По совету Мужика Семён представил Иру лысой и больной – и исполнился к ней острой, щемящей жалостью. Однако стоило ему только допустить мысль о том, что именно ему придётся ухаживать за ней в немощи, как Семён отчётливо осознал: нет, этого он не сможет. Его станет только на сочувственное наблюдение.
Он написал Ире прощальное письмо (на разговор не хватило смелости) и благодарил Бога, что не сорвался окончательно, не сделал её своей фактической женой. Та уже раньше о чём-то догадывалась и приняла новость смиренно. Семён жалел её, но вспоминал всегда с неприятным чувством – она была для него напоминанием о грехе, о собственной слабости, и связанный Ирой свитер он вскорости подарил соседу по комнате, не в силах носить на себе память об этой девушке.
Машу он нашёл снова не среди регентш или иконописок, а на стороне – точнее, дома, в Ачинске, на каникулах после четвёртого курса. Если Ира с самого начала говорила Семёну «да» и звала к себе, то Маша отшила его так резко, что Махова словно обожгло кипятком. Он не собирался отступать, и Маша вначале дала согласие всего лишь на прогулку по парку, потом на переписку и звонки. Заводить речь о каких-либо отношениях Семён не решался долго – он видел, что Маша смотрит на него недоверчиво, проверяет на надёжность. Он подстраивался под её интересы, сходил вместе с ней на оперу, в консерваторию на концерт.
Она охотно говорила о своём кубанском детстве – родителей Мария потеряла в восемнадцать лет, но дядя, дедушка и другие родственники, по её словам, никогда не давали почувствовать себя сиротой.
– У дяди там чудесный такой сад, большой дом… Но я приехала сюда, где выросла с родителями. Дядя очень переживал за меня, до сих пор переживает. Говорит: знай, чуть что – приезжай ко мне. И обращайся по любому поводу, я тебя в обиду не дам. Ты у меня королевна.
Семёна забавляло, что эта гордая девушка держала его за плебея, и он нарочно долго не рассказывал, кто его отец и дядя. Когда Маша узнала о том, что её преданный ухажёр, оказывается, происходит из семьи учёных и священников, она поражённо уставилась на Семёна и произнесла что-то вроде извинений.
– Ничего, ну, ты же не знала, – Семён наслаждался произведённым впечатлением. – Слушай, а скольких детей ты бы хотела завести? Я – четырёх.
– Детей не заводят, это не тараканы, – пробурчала Маша.
– Верная мысль, мне нравится! – усмехнулся Семён. – А всё-таки?
Он был неотступен, и к концу пятого курса Маша, признавшись, что детей ей лично хватило бы двоих, дала ему согласие на брак.
Свадьбу сыграли в июне, сразу после окончания семинарии. Краснодарские родственники прибыли в полном составе, привезли фрукты, сало, кубанское вино. Деньги в конверте сразу забрала молодая жена, и Семён даже не знал, на какую сумму расщедрились новые родственники. Дядя пил с ним три дня подряд: два вечера он зубоскалил и поддевал молодых, на третий расчувствовался и приказал Махову беречь и лелеять сиротку. Провожать дядю, деда, племянницу и двоюродных сестёр поехали только через неделю.
– Ну, бывайте! Счастья вам и побольше денег, – пожелал на вокзале дядя.
– И детишек тоже, – хихикнув, добавила сестра.
Семён понимал умом, что от этих людей не стоит ждать святоотеческих наставлений, но чувство какой-то недосказанности мучило его до самого вечера. Под сериал он плеснул себе полкружки кубанского вина и хотел добавить ещё, но махнул рукой и закрыл холодильник.
Семён заранее знал, что ему, как новоиспечённому диакону, предстоит служить Сорокоуст во Введенском соборе Красноярска. Жить в Красноярске было, собственно говоря, негде, но Семён ничуть об этом не волновался, не то, что веря, а зная, что эта проблема разрешится сама собой. Она действительно разрешилась: их с Марией приютил у себя на месяц один из курсантов.
– И долго мы будем здесь толкаться? – вопрошала Маша, когда прошла неделя служения.
– Недолго, – невозмутимо ответил Семён. – Мы будем снимать квартиру. На первых порах.
– На какие деньги ты собираешься её снимать?
– Ну, честно говоря, пока на родительские. Но это временно, заметь. Я не хуже тебя понимаю, что нам нужно своё жильё…
– Причём не одна комната.
– Э-э… Вначале, извини, всё-таки будет одна.
– Но недолго.
– Да понятно! – начал терять терпение Семён. – Но я ж тебе не подпольный миллионер?!
Мария с шумом выдохнула, прижалась к его гладко выбритой щеке – Семён пока не хотел отпускать бороду.
– Я же просто хочу, чтобы у нас был уютный дом… Меня родители воспитывали так, что мужчина должен обеспечить пространство и финансы, а женщина – порядок и уют… Сёма, я хочу, чтобы нашим будущим детям было хорошо, и они ни в чём не нуждались. Мы станем замечательной семьёй, будем ездить за город на пикники. Я буду заниматься детьми, развивать их… Только ведь для этого нужны средства, условия. И я просто тебе об этом напоминаю.
– Да всё правильно, Маш, – Семён небрежно закинул руку на молодую жену. – Только ведь жизнь священника непредсказуемая: сегодня в городе, а завтра могут и в деревню заслать.
Маша серьёзно покачала головой:
– У меня родители дружили с парой батюшек там, на юге, так что я вашу жизнь в общих чертах знаю. Если будешь на хорошем счету и не отметишься в скандалах, будешь всегда служить в городе. И вообще, какая деревня, в смысле? Ты же сам говорил, что хочешь идти к людям. А кто в деревне? Одни старики. Хотя машина для поездок нам нужна. Мне дядя двести тысяч передал, нужно твоим ещё сто вложить, и будем кататься.
– Мне ещё в автошколе надо курсы проходить, – сказал Семён как о чём-то далёком и пока не нужном.
***
Он рассчитывал быть дьяконом годик-полтора. Но уже спустя десять дней его диаконского служения настоятель уверенно сказал:
– Готовься к хиротонии. В ближайший приезд Владыки будешь рукоположен в иерея.
– А не рано? – только и спросил Семён.
– Не тебе решать, – отрезал настоятель. – Нам батюшка нужен. Ты с образованием, с желанием. Проповеди говорить умеешь.
Возвращаясь домой в тот день, точнее, вечер, Семён не чуял под собой ног от радости. Ему казалось, что он теперь вовсе не он, не Семён Махов, младший сын своего отца, а Божий помазанник, великий проповедник, духовный учитель. Точнее, всё это великое и высокое жило в нём, как некая высшая сущность, а сам он оставался простым рабом Божьим Симеоном, вместилищем для этих богатейших ничем не заслуженных даров.
К проповедям он готовился тщательно. Наготове у него лежали книжки, написанные двумя Иоаннами, которых разделяли шестнадцать веков – Златоуста и Крестьянкина, руководство по гомилетике архиепископа Аверкия Таушева, «Библия с толкованиями» его почти что тёзки – архимандрита Симеона, в миру Владислава Томачинского. Семён не готовился по этим книгам напрямую, а просто читал их в свободное время, напитывался ими, и потом по вдохновению говорил проповедь во время Литургии. Люди слушали его, выходили вперёд. Семён ликовал, если от его слов человек с хмурым лицом озарялся улыбкой, равнодушные захожане останавливались в храме ещё на пять минут, отрывались от своих тетрадей и внимательно слушали певчие. Но вскоре он увидел, что лица в церкви постоянно меняются, и те, кто слушал его с таким участием, могли больше не появиться на приходе ни разу. А когда Маша, сославшись на то, что ей на пятом месяце беременности уже трудно выстаивать службу, перестала ходить в храм по субботам, Семён загрустил окончательно.
– Раз ты так тянешься к людям, тебе нужно нести служение в воскресной школе, вести какое-то обучение, – советовал по телефону отец. – Разговаривай с настоятелем, обращайся к владыке. Только давай сам, ты не мальчик.
Настоятель выслушал сумбурную просьбу Семёна и задумчиво сказал:
– У нас была воскреска для взрослых, но она как-то свернулась… Не хватает ресурса – ни материального, ни человеческого.
Прошло ещё полгода, прежде чем во Введенском соборе открылся православный клуб. Первыми его членами стали духовные чада степенного добродушного отца Александра. Это были неплохие, в целом приятные люди, любящие пить чай и читать вслух жития святых. Но Семёну было с ними катастрофически скучно. Почти все они принадлежали к старшему поколению и на молодого батюшку смотрели умильно-снисходительно, несмотря на формальную учтивость и обращение «отче». Семён чувствовал себя чужим, и однажды на исповеди, когда к нему под епитрахиль подошла давно знакомая прихожанка Полина, он неожиданно сказал ей:

