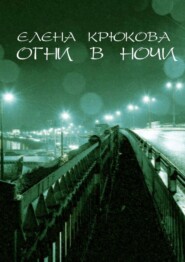
Полная версия:
Огни в ночи
Невнятно это только ему, миру, разговаривающему на иностранных языках свободно, а вот нашего, родного, снежного, рваного, дымного, хвойного, слепленного, как снежок, из ледяной грязи и сукрови и птичьих перьев и стреляных гильз, ему – отчего-то – отчего бы это? – не понять.
Зато понимаем – мы. И лепечем на нём – мы. И отвечаем на этом языке сами себе – мы. И переводим на этот язык и перетолмачиваем с этого языка – на все остальные – чтоб хоть толику восчувствовали, ан нет, ЭТО – непереводимо! – мы. Миссия юродства России не такая уж и непонятная и непонятая – миф о «загадочной славянской душе» ещё долго будет будоражить заевшуюся, заспавшуюся в сервисах Европу и новопланетный Новый Свет, заставляя простых людей Запада смутно мечтать о красавицах с косами до пят, плясках медведей на улицах и восстановлении монархии и коронации нового Царя. В этот знаковый пейзаж с руками и ногами вписывается юродивый – персонаж для России узнаваемый и ею востребованный, да не антуражно, а насущно.
Почему? До сих пор?! После всех адских юродств Октября, полувекового террора, научно обозванного «тоталитарной системой», после очистительного и жестокого юродства всех войн и возведений бытия из небытия, из руин, после издевательств над теми, кто – вполне юродски – в юродскую же картину никак не вписывался?
Ответ на сакраментальный вопрос даст будущее. Возможно, близкое.
Мы думали, что не стоит обольщаться по поводу осмысления Россией собственной великой и высокой роли, кою она либо забыла исполнить на мировой исторической сцене, либо не выучила – плохо затвердила – текст.
Однако Россия сама весело посмеялась над нами.
Она, её народ оказались гораздо сильнее всех наших метаний, сомнений и сокрушений: она не актриса, Россия, она не притворяется, не играет, она в Мире – ЖИВЁТ, и держит СВОЮ речь, и поёт СВОЮ песню.
Одно, только одно ключевое Слово и присутствует в этом суперкратком, но чересчур трудном для прочтения вслух, прилюдно, тексте:
ЛЮБОВЬ.
Да, как ни странно, но так. Любовь – и все. И больше ничего. Сейчас – и больше никогда. В безлюбном мире. В вакууме подлости и странного, сумасшедшего Всеобмана и Всеподлога.
И наступает тишина.
И каждый думает… или чувствует.
Кто ныне, в изломанном донельзя юродском мире, является НОСИТЕЛЕМ ЛЮБВИ?!
Кто ДАРИТ её, кто ПРИЗЫВАЕТ её, кто – хотя бы – НЕ БОИТСЯ её?!
Если задаёшь себе вот такие вопросы – поистине, все вокруг сошли с ума.
Этот «кто-то» – сокрыт от взоров. Нет, он сейчас не на площади. Не на вокзальном перроне. Не на заметеленных улицах.
Он, юродивый, чистый и честный и наивный и исцеляющий и беззащитный, упрятан гораздо глубже, дальше.
Он – воистину небесный Поэт – в каждом из нас, кто ещё способен мыслить, страдать и выбирать; его следы – перед нашими ногами на снегу.
Страшно ступить вослед?! След в след…
В мире нью-рынка, нью-наживы, нью-формации…
Исчезни, страшный сон мировой… исчезните, глад, мор и землетрясения по местам…
А он все идёт и идёт себе впереди, выкрикивает слова – не разобрать, машет руками, просит подаяния.
И она сидит, все сидит, кротко протянув руку черпачком, на палящем солнце или под площадной аляповато разряженной чёрной елкой, и улыбается, поджав под себя босые ноги, и в волосах её путается серебро снега, и её воздетая над толпой рука освещает толпе – нам – Путь, по которому трудно и тяжело идти, который мы преступно и легкомысленно забыли, который нам ещё предстоит восстановить – по знакам, по огням, по иероглифам впечатанных в память следов.
«Блажени кротцыи, яко тии наследят землю».
«Я сегодняшняя. Я мгновенная…»
Я сегодняшняя. Я мгновенная.Я под небом – о, неизменная.Да оглядываюсь: грудничок во мгле —Это ж я, я, крошенька, на земле…Я росла-росла, да и выросла!Я ждала-ждала, да и вылетела —Клеть открыли, и – в Мiръ пылающийЗапорхала я, благословляюща!Прославляюща, снежком пущена —Над кондаков священными кущами,Над ирмосами, полиелеями,Всепрощающа и жалеюща!Вся зверями злыми излюблена,Вся слезами текуща, изрубленаОговорами, лживой клятвою, —А звучаща зарей троекратною!Всех врагов незримо целующа,Не душой вживую торгуща —Душу всем отдающа: молитеся!Насыщайтеся, упоитеся!Рождество Твое, Христе Боже наш!Воссия Мiрови свет разума…Ты ж меня ещё не родишь, не дашьВо ладошку – дитячьей радости!Ты ж летишь один! Я ж горю одна!В небесах Ты, а я – в заснежии…Изойдёт зима! Налетит весна!Хлынет в лик безумьем, безбрежием…Ты рождён! Ты не умер! Ещё не распят!Ты Младенчик… смеётся Пречистая…Колесо катит… не пойдёт назад,Через вопли, снега неистовые…Я зову Тебя. Я люблю Тебя.Я пою Тебя – Бога меж людьми!Ты один – в небеси – вся моя судьба:Ты звездами мя осыпь, обними…Половина хитона красная,Половина хитона синяя…Задрожала улыбка радугой,А висок заискрился инеем…Умирать нам всем… всё бы ничего…По Тебе одному плачу-маюся…Рождество Твое, Христе Боже!.. о,Над вертепом низко склоняюся…И Мария, в лоскутьях, парят власыТо ль из лыка, а то ли из кружева,Мне глядит в лицо, будто на часыЛедяные: сыплются стужею,И Младенец, гусеница времён,Чуть шевелится под лампадою,Тихо так, в бинтах кровавых пелёнВозлежит под Мiра громадою.И я молча, рядом, в огнях стою,Во метели, с коровой бумажною,Шерстяную овцу шепотком зову,Вся полночная и бесстрашная,Вся застыла на холоду Рождества,Вся лоскутная и заплатная, —Все забыла Тебе любови слова:Осмогласные, необъятные.Призвать грешников к покаянию
Есть многое, что человеку врождено хорошего; и тогда ему легче работать над собой, видеть и исповедовать свои грехи.
Но как быть с тем, кому и врождено плохое, и вырос-то он в тяжёлой, гнетущей атмосфере, и никто ему не протянул руку, не сказал о счастье покаяния, очищения, помощи ближнему?
Часто грех сладок. Он очень соблазнителен. Мы грешим, потому что нас тянет, влечёт; мы говорим себе: только один раз, вот сейчас, и больше никогда!.. Но солгавший однажды солжёт и ещё. Обманувший однажды обманет и ещё; и всё легче ему будет обманывать и лукавить.
Гнев, злоба, ненависть – огромного ужаса грех. А сколько людей в нём живет! Войны – от него. Они из него растут. Как обезвредить эту отравленную почву?
И вот наблюдаем в мире словно бы два лагеря. Праведников и грешников. Всё улучшающих и очищающих себя праведников, не покидающих ни молитвы, ни исповеди, ни обращения к Богу, и грешников, всё больше увязающих в болоте своих многочисленных грехов.
Грех, исповедавши его, это мы все помним, желательно больше не повторять. Но человек не может вмиг стать идеально чистым и безгрешным. На борьбу, на сопротивление диаволу, который искушает тебя, всё-таки требуется время. Бывает, люди воцерковляются одномоментно, сразу, а бывает так, что медленно, со страданием и болью идёт этот процесс. Тяжко расставаться с соблазнительными грехами, со сладким образом жизни. Даже с чревоугодием жалко расстаться. Да, это чисто человеческое – хорошо поесть! Но погоня за деньгами, чтобы купить побольше изысканной еды, начинает заслонять все духовное, что воистину спасает человека, ведёт его. И человек теряет путь и работает во имя наслаждения, привыкает гнаться за наслаждением, даже таким невинным с виду. А услаждение своего «я» – это выпячивание этого самого «я» вперёд, перед собой… и оно, твое «я», занимает место Бога. Это уже страшно.
Сколько споров писателями было поднято на тему: грех ли любовь, если она истинна, а в миру ей чинятся препятствия и от неё, от этой великой любви, страдают другие люди? Грех ли убийство, если оно совершено во имя защиты, во имя спасения другого человека? Но ты сам отнял у человека жизнь. А вдруг ты ошибся? И теперь будешь жить с тяжким грехом убийства на душе, на сердце?
Традиционная русская тема: раскаявшийся грешник, разбойник Кудеяр, что убил-зарезал множество людей, а потом покаялся, обратился к Богу, крестился и основал в лесах монастырь… Достоевский хотел написать роман «Житие великого грешника», где – мы по сохранившимся эскизам это знаем – изобразил судьбу Алеши Карамазова, младшего из Карамазовых, ставшего монахом-расстригой; он покинул монастырь и стал… революционером! Исповедовал насилие, убийство, кровавую борьбу со священной Царской властью… Федор Михайлович пророчески глядел вперёд. И грешник, быть может, привлекал его больше, чем праведник. Ибо в душе, во внутреннем мире грешника происходят сложнейшие психологические процессы, которые либо выводят человека к Свету, к Богу, либо обрушивают его во тьму кромешную, в геенну огненную. А художника всегда привлекает сложность. Воспевать праведного, чистого, честного человека – прекрасно! Но люди живут не среди идеальных образцов бытия, а среди живых – и часто грешных – людей.
Показать ПУТЬ – вот что надо уметь делать писателю.
Это трудно. Это надо делать убедительно.
А для убедительности надо самому многое пережить.
Одними книжными раздумьями, одним интеллектом тут не справиться. Самому надо страдать. Самому – узнать грех! Самому каяться, из него выбираться. Самому к Богу идти. Тогда в твои строки вольётся сама жизнь человеческая. А то явится текст, который, по словам нашего замечательного критика Валентина Яковлевича Курбатова, «пахнет бумагой».
Грешник ли, праведник – живой человек. Он твой сосед, твоя родня. Он близко – помоги ему: словом ли, делом, поступком. Он далеко – помолись за него.
…Слова Господа помню: «Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию…»
«Пою я Твоё Воскресение…»
Слово о поэте Фёдоре Сухове
Жизнь поэта… Тайна, загадка. Человеческая стезя и человеческий суд подлинному поэту не страшен. Он отворачивается (как бы в старину на Руси молвили – отвращается…) от суеты мира, от его соблазнов и славы, распрей и оскорблений, хвалы и клеветы. И, да, совсем по Пушкину, их приемлет равнодушно… и уходит в затвор.
В затвор счастья творить.
Творчество… пение… одинокий голос…
Есть у меня поэма, названа она – «Одинокий голос». Это архетипическая формула, символ-знак существования, бытия поэта. Таким был Фёдор Сухов. Таким и остался.
Время, время… Всепожирающее время… А не властно оно над голосом. Что достойно – да услышано будет. Что драгоценно – да сохранится в анналах великих земных письмен для будущих поколений.
Федору Григорьевичу не нужна была земная слава, её грохот, её фанфары. Он довольно наслушался страшного грохота войны. Помню его на Рождественском концерте в Центральном Доме литераторов: вечер именовался «Русская религиозная поэзия и музыка», в зале – аншлаг, густо-драгоценно наряженные ёлки, серпантин, конфетти на паркете. Тёмная пасть зала. За кулисами Сухов подходит ко мне, протягивает мне руки. Крепко пожимает мои.
– Не волнуйтесь, Леночка! Читайте спокойно! С Новым годом!..
И потом – тихо и веско, глядя мне в глаза весело и странно-скорбно:
– С Рождеством Христовым…
И вдруг повеяло на меня Библейским ветром. Выжженной пустыней. Полынью. Ширью смертного страшного поля после великого сражения.
«Вот и опять я в Осёлке, сижу уже второй месяц. Ничего такого не высидел, потому что больше двигаюсь, хожу по полям, по лугам, слушаю, как говорят между собой ромашки, колокольчики; они говорят своими запахами, сейчас особо слышно говорит полынь. В августе она всегда слышно и очень громко говорит…» (Из письма Фёдора Сухова Ивану Данилову, 3 августа 1970 года).
***
Стихи были ему – воздух. Писал, как дышал. Однако этот призрачный, световой, пламенеющий воздух стоял под сводами крепкого русского слова.
Но почему меня – и тогда, и теперь, все эти годы – не покидает ощущение древности, чувства несомненной, небесной библейскости, когда я читаю его стихи или вспоминаю о них и о нём, живом?
…А я – уже не я. Я только тень, я эхоБегущей по полю, гудящей колеи,Я – память жившего когда-то человекаВ моей измученной бессонницей крови.Жизнь без сна: вместо него – поэзия. Жизнь без быта: вместо него – поэзия.
Жизнь без мести и ненависти, зато – с Богом.
Вместо ненависти – поэзия.
Всякий истинный поэт, настоящий художник, живет с Богом и в Боге; отвращается, снова произнесем это библейское слово, от ужаса злобы и мерзости духовного запустения.
Поэзия – Давидово начало, великая Псалтырь Давида-царя. У Фёдора Григорьевича есть такая вещь в стихах – «Аввадона». Она – в рукописи. Дай Бог Елене Фёдоровне, его дочери, которая благородно и постоянно занимается заботами о его литературном наследии, опубликовать этот текст. Я знаю об «Аввадоне» понаслышке. Но я догадываюсь: это не только образы Писания. Это – о Времени. Это – о нас с вами. И это – изображение пламени, как на фреске в старом храме: когда оно из пламени Адова вдруг превращается в Божий огонь.
В Благодатный Огонь.
***
Пламя войны… Страшный, преисподний огонь войны…
Фёдор Григорьевич воевал. И, как многие, войну с берега на берег переплывшие, задумывался о том, что такое жизнь и смерть, победа и поражение, торжество над поверженным врагом и полынная горечь при мысли о павших на поле брани – близких друзьях и неведомых миллионах:
…купленная ранами Победа —она моею вовсе не была.Война… Кто воевал, не любит о войне говорить. Тяжело это, слишком больно.
Но боль военная – боль вечная; боль Библейская. Она – да, навсегда..
В дыму всемирного пожара,Когда могло всё пеплом стать,Когда сама земля дрожала,А я старался не дрожать.А я сидел в своём окопеС противотанковым ружьём,И багрянел в великой скорбиРаздвинувшийся окоём.Ах эти люди, люди, люди,Враждой всемирной воскипя,Они из всех своих орудийУвечили самих себя.Свидетельствую непреложно,Подросшим говорю лесам:Поплакать было невозможно, —Война не верила слезам.А как хотелось мне поплакатьНа безымянный бугорок, —Я сам волок себя на плаху,На место лобное волок…Кто воевал – и неверующий, уверовал.
***
Федор Сухов верил в Бога. Верил сызмальства, изначально. Это явственно просвечивает сквозь все восхитительные, то густые, то прозрачные, как нежные летние облака, слои глубоко лирической, пронзительной музыки его стихотворений.
Пою я Твоё Воскресение,О Господи, подвиг Твой славлю!Избавь меня от искушенья,Я сам-то себя не избавлю.Поставь поскорее стопы моиНа путь, что протоптан Тобою,Пусть дождь Твои пажити вымоет,Своей обласкает любовью…Так и звучит внутри тот его ангельски-легкий, чуть с хрипотцой, веселый голос, сопровождаемый странно-печальным, древне-печальным взглядом из перекрестий морщин:
«С Рождеством Христовым!..»
Все поэты шагают на сцену, читают, уходят. Между стихами звучит, суровыми столпами встает музыка – поет мужской хор Новодевичьего монастыря. Я прочитала «Правду» из «Литургии оглашенных». Фёдор Григорьевич подходит близко, и снова мои руки – в его руках.
– Это – в сердце, навылет… Я слушал!..
Я порывисто обнимаю его, шепчу: «Спасибо, Фёдор Григорьич, я так рада, что вы здесь, рядом», – мы тут двое родных, земляки, нижегородцы, в столичной толпе, в вихрях московской культуры, в атмосфере гала-концерта – Фёдор Григорьевич сейчас из заснеженных волжских полей, из Красного Осёлка, я из шумного, железно-кирпичного рабочего города, что ещё носит гордое писательское имя «Горький». Два русских поэта, уцепились друг за друга, как в плывущей по бурному морю лодке, и глядят друг на друга, и смеются от радости: прочитали!
Прочитали людям – душу свою!
***
Какой путь лучше: от сложности к простоте или от простоты к сложности?
Никто не знает.
Вот Библия, она одновременно проста и сложна.
Просто понятно, что не каждый осилит Книгу Царств, а Песнь Песней поют, а Псалтырь читают-перечитывают, и вслух, и молча, ею молятся, ею исповедаются, ею – плачут.
Лев Толстой ушел из Ясной Поляны. Ренэ Генон – из католической Франции – в мир Ислама. Николай Клюев – из светских поэтических салонов – в мир нищеты и юродства. Цветаева, Бунин, Зайцев – из убитой старой России-Родины – на чужбину.
Федор Сухов тоже уходит.
Уходил. Ушёл.
И тем самым – вернулся.
К своей родной Библейской, возлюбленной вечности; к самому себе.
Навсегда.
Преисподнего царства страшилище,Зверя дивьего цепкие лапища, —Как из Ада я, как из узилища,Уходил из зловонного капища.Удалялся от Маркса, от Ленина,От всесветного столпотворения,От единственно верного мнения,От его высочайшего тления.От затменья мой посох утопывал,Постигая иное учение,Ожидая – о нет, не Андропова —Покаяния и очищения.Удаленья от дикого ужаса,Всюду ужасы, ужасы, ужасы…Дождевая пузырится лужицаПосреди обезлюдевшей улицы.А когда свечереет, покажетсяБоковина ущербного месяца,И ветла. Под ветлою коряжистойВодяная сутулится мельница.Сколько косточек перемололаНа проворном крутящемся камене!Потому покаянное словоВ отдалённой кручинится храмине.В росяном оглашается ладане,Возвышается в будничной рощице,Умиляет мой Китеж, мой Радонеж,В соловьином блукает урочище.Созвездие Лебедя
Венок Фёдору Тютчеву
…детство, огромное, как ночное небо. Звёздное небо; и в нем тысяча солнц. Ты ещё не знаешь, что это далёкие солнца. И что многие из них уже погасли; а свет, пробежав немыслимые дороги в пустоте, достиг твоих глаз – и только там – на дне зрачка – на миг – вспыхнул.
…и вот ты взрослый. Тебе еще немного времени дано побыть в подлунном мире. Полюбоваться на солнце, луну и звёзды. На огонь и воду. На землю и небо. Вдохнуть ветер; обласкать глазами, руками первый снег. Сразиться со злом. Утвердить добро. Это только в том случае, если ты выбрал сердцем Бога – и пошёл за Ним.
Как океан объемлет шар земной,Земная жизнь кругом объята снами;Настанет ночь – и звучными волнамиСтихия бьёт о берег свой.Если поэт живёт подлинностью своего дара, тогда он – неизбежно – философ. И наоборот: всякий великий философ – поэт. Так сплетаются ипостаси мыслителя и художника. Что же, какое же чудо пронзает, насквозь пробивает нам плотный защитный панцирь души, обнажает нас, ставя перед ликом торжественного Космоса?
Фёдор Иванович Тютчев сам есть Космос. Россия – счастливица: ей отныне и навеки дано держать великого Поэта на ладони; на руках, в руках, как держит младенца мать; глядя огромными озёрными, речными глазами на своё вечное сокровище, звёздно плача над поэтовой неоглядной, небесной судьбой. И шепчут губы Руси его строки: они наша русская Псалтырь, наши неохватные, алмазные, звёздные письмена.
Да, есть судьбы небесные и земные. И любовь есть – небесная и земная: как на знаменитой картине Тициана. Как этот нежный, в патриархальной дворянской семье рождённый мальчик, взращённый бывшим крепостным Николаем Афанасьевичем Хлоповым, вдруг ощутил в себе громадный, на полмира, Космос, звёздный вихрь чувств, музыки и слёз? Тогда ли, в тот день, когда они с воспитателем нашли в траве мёртвую голубку, и Фединька заплакал горько, неутешно, а потом голубку похоронил – и в слезах сидел за столом над листом бумаги, и капали с пера чернила, и лились слёзы, и, как слёзы, лились первые стихи?
Что такое стихотворенье? Краткий стих или мощный эпос? Как человек додумался складывать слова в песню, в молитву? Письмена явились позже, потом; сперва явился звук. Музыка. Внутри музыки таится вся мощь Космоса, довременное гуденье, сгущенье Большого Взрыва. А потом, когда в стороны, навстречу бесконечности, широко и радостно разлетаются звезды, галактики, туманности, кометы и планеты, музыку Бог высвобождает из оков, и она тоже летит – и поет вместе со всем освобождённым, приговоренным к жизни и смерти мiром.
***
…и начинается отсчет времени.
Время. Вот загадка. Вот та материя, с которой напрямую работает художник.
Фёдор Иванович с ним, с временем, тоже смело работал.
Он был с ним накоротке; но не фамильярничал; он понимал его неуклонность, его – для малого, бедного человека – могучую бесповоротность; он возлюбил его, ибо поэту Богом дано возлюбить время: под куполом Времени, во храме Времени поэт поёт о вечности, и не думает он о своём мессианстве, но твёрдо – кровью, сердцем, не умом! – знает: время – Космос; время – история; время – миф. Время – та мировая трансцендентность, о которую человек бьётся, как рыба об лёд, та волна, что исподволь, издали, из допотопного хаоса, катится к человеку, а потом внезапно, во весь рост, вырастает перед ним, и он, подхваченный волной, крича, плывёт, ещё плывёт, а потом – и тонет во времени.
Стихия! Разве с нею возможна борьба? Разве не лучше, не счастливее покориться ей?
Может, это и есть тайный брак человека и стихии?
То глас её: он нудит нас и просит…Уж в пристани волшебный ожил чёлн;Прилив растёт и быстро нас уноситВ неизмеримость тёмных волн.Волны времени… волны…
Овстуг, он ведь тоже морской. Ещё до всех морских стихотворений Фёдора Ивановича. Ещё до всего безумного моря великой последней любви, захлестнувшей его, затопившей. Над Овстугом – море неба. Неба лебединого – на гербе Тютчевых гордые лебеди; неба солнечного, и победная синь и слепящее солнечное золото, так же, как синь васильков в золотой ржи, – любимые, кровные цвета Руси Православной, нежно и отчаянно любимой: во всех суждённых чужбинах.
Золото – купола. Синь – зенит. Вечный, мощный аккорд. Русский.
Небо – перевёрнутое море! Море – перевёрнутое небо! И есть предчувствие. Предчувствие, быть может, самое большое счастье человека, счастье детства и юности. Простор – ещё одно состояние Родины; лебединый простор Овстуга дал мальчику Тютчеву блаженство – чуять себя сопричастным простору, ощущать себя одновременно и малой частицею мiроздания, и сильным созданием Бога, образом и подобием Божиим.
Москва, куда уезжали на зиму Тютчевы, ведь она ещё не знала, что Наполеон надвинется на Русь, что она, град русский первопрестольный, будет сожжена, хотя юродивые, по улицам и площадям Москвы мотавшиеся в рваных рубищах своих, предсказывали сей великий пожар – они предчувствовали его. И ещё до пожара, до войны с Наполеоном Фединька в московской спаленке своей всё читал, читал и читал – и греков, и римлян, и Тредиаковского, и Хераскова, и Державина, и Жуковского…
Насыщался – поэзией…
А небо? Необъятное море звёзд, ночной прибой? Зимней московской ночью, выйдя на крыльцо и глядя на московские звёзды, мальчик вспоминал усадьбу. И поля вокруг Овстуга. И журавлей, и лебедей под облаками. Он издали, из времени, видел себя. Вечерело. Он лежал на колком жнивье. Над ним раскидывался сначала розово-золотой, потом густо-синий, потом сине-чёрный мощный купол. И вспыхивали под куполом сонмы огней. Малых и великих. Незаметных и ярчайших. Он хорошо помнил уроки астрономии Николая Афанасьевича. Синяя Вега стояла в зените. Справа от неё, вбок чуть поведи взором, крупный алмаз Денеба. Денеб. Альфа Лебедя. Альфа, это значит, самая яркая звезда. Созвездие Лебедя. Куда небесный Лебедь летит, вытянув гордую шею? В какие времена? А может быть, в вечность, к богам? А человеку как достигнуть богов? А зачем? На что обречён человек? И… обречён ли?
Может, это и есть наша судьба – принять и понять? Стерпеть и смириться?
И разве не об этом говорил людям Христос?
Тогда зачем же мы боремся? Зачем – бьёмся? Может, напрасно всё?
Мужайтесь, о други, боритесь прилежно,Хоть бой и неравен, борьба безнадежна!Над вами светила молчат в вышине,Под вами могилы – молчат и оне…Да, всё-таки – борьба. Внутри истории, внутри дискретного времени – всегда борьба. Иначе, если ты отвернёшься, ляжешь, закроешь глаза и сложишь бессильные руки на груди, ты умрёшь прежде твоей смерти.
***
Родное и чужое.



