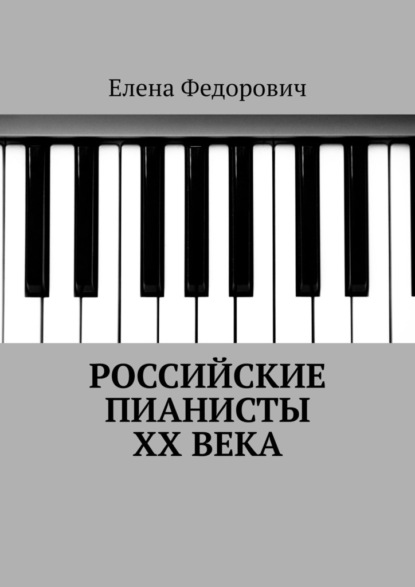
Полная версия:
Российские пианисты ХХ века

Российские пианисты ХХ века
Елена Федорович
© Елена Федорович, 2025
ISBN 978-5-0065-9142-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
РОССИЙСКИЕ ПИАНИСТЫ ХХ ВЕКА
ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемая вниманию читателей книга появилась спонтанно – из статей о великих пианистах и фортепианных педагогах, которые создавались к их памятным датам. Ранее автором были написаны монография «Русская пианистическая школа как педагогический феномен» и несколько учебных пособий по истории профессионального музыкального образования, в которых рассматривались общие направления развития этого вида искусства и обучения ему, но отсутствовали развернутые портреты великих и просто выдающихся отечественных пианистов. Данная книга является попыткой восполнить этот пробел.
Жанр «портретов пианистов» уже разработан в музыковедении и музыкальной публицистике: это книги Д. А. Рабиновича «Портреты пианистов» (1962) и Г. М. Цыпина «Портреты советских пианистов» (1990). Сюда же можно отнести статьи Г. М. Когана и Л. Е. Гаккеля, а также справочник «Современные пианисты» Л. Г. Григорьева и Я. М. Платека (1977, 1985, 1990). Все эти прекрасные книги не охватывают весь ХХ век, так как написаны до его завершения. Кроме того, они не ставят задачу проследить генезис пианистических школ. Диссертационные исследования, как правило, недоступны широкому кругу читателей.
Необходимость же в систематизированной информации о наиболее значительных российских (советских) пианистах, их педагогах, учениках, репертуаре, основных фактах биографии имеется даже у профессиональных музыкантов, для которых сами по себе изложенные здесь факты в большинстве не являются новыми. Для учащихся и студентов музыкальных учебных заведений, а также просто любителей музыки данная книга может быть полезной в более широком ракурсе. В современном мире всего и всех очень много; и великолепных пианистов – тоже. Для того чтобы не «заблудиться» в море информации, необходима опора на доступные источники, ее систематизирующие.
В качестве оснований для систематизации выбраны три: время (ХХ век), место (СССР и Россия) и принадлежность к «школе». Все три, разумеется, не абсолютны: многие великие пианисты застали рубеж веков; активная эмиграция музыкантов в ряде случаев лишает их единой «привязки» к какой-либо одной стране, а пианистические школы в эпоху глобализма смешиваются, переплетаясь и обогащаясь. Поэтому определим меру следования этим основаниям.
Автор не дает подробной характеристики пианистов, чья деятельность преимущественно пришлась на XIX век. Общая роль их в становлении российского пианизма следующего, ХХ века отражена в первом разделе: «Истоки русского пианизма». Нет в книге и «портретов» композиторов-пианистов: это отдельная тема.
Нет здесь также характеристик великих пианистов российского происхождения, или просто имевших отношение к русской пианистической школе в целом, но эмигрировавших еще в ранний период творчества – это тоже должно быть темой отдельной книги. Чрезмерный объем, неизбежно бывающий следствием желания осветить все сразу, затрудняет чтение, а легкость восприятия – одна из целей этой книги с учетом ее преобладающей аудитории. В данной книге эти пианисты только названы.
Принадлежность того или иного музыканта к конкретной школе (школам) является одним из способов систематизации материала. Хотя, разумеется, сам феномен русской пианистической школы (как и черты ее отдельных ветвей) до сих пор вызывает восхищение во всем мире, а значит, достоин того, чтобы мы продолжали называть это привычными именами.
Наиболее сложными вопросами были: а) кто из персон помещен в отдельный сюжет во втором разделе книги, а чья характеристика дана внутри большой главы в третьем; б) конкретный перечень имен в третьем разделе книги, часть из которых описаны подробно, часть перечислены в общем списке, а кто-то (что совершенно неизбежно, с учетом плодотворности деятельности «школ» и условности разграничения уровня различных пианистов) пока «выпал».
Выбор проводился на основе двух объективных подходов. 1. Отдельные «портреты» во втором разделе, как и развернутые характеристики в третьем, даны почти исключительно тех пианистов, которые родились до последней трети ХХ века. 2. «Портреты» во втором разделе размещены в порядке старшинства по дате рождения.
Автор прекрасно отдает себе отчет в индивидуально-субъективном характере восприятия исполнительского искусства, а вместе с тем – и условности разграничений «великий», «выдающийся» и проч., поэтому название «Великие российские пианисты ХХ века», данное второму разделу, следует относить к эмоциональному спектру. Все без исключения пианисты, чьи имена хотя бы просто перечислены в этой книге, вызывают у автора восхищение, что и послужило главным побудительным мотивом к ее созданию.
Еще одним способом систематизации материала явилось упоминание о конкурсных победах пианистов, в некоторых случаях выступающее единственной характеристикой. Это не следует относить к чрезмерно большому значению, придаваемому конкурсам (автор относится к ним скептически). Но в тех случаях, когда ограниченный объем не позволяет дать пианисту, чье имя находится внутри какой-либо «школы», развернутую характеристику, именно конкурсы выступают наиболее общим маркером уровня данного музыканта. В то же время еще более условное отличие – различные звания – в большинстве случаев не приведены, иначе книга походила бы на справочник.
К сожалению, «ограничение исследования» пришлось применить и к характеристикам педагогов начального и среднего звена, хотя их роль в подготовке выдающихся музыкантов огромна и, как правило, недооценивается. Остается надеяться, что этот обширнейший и интересный материал составит другие книги.
Выражаю признательность выдающимся музыкантам, удостоившим меня своих бесед, из которых почерпнута значительная часть содержащихся в книге сведений, а также всем авторам материалов о пианистах, на которых эта книга основана.
Особый вклад в создание этой книги внесли мои друзья и коллеги Б. Блох, И. Беров, С. Воронов, Ф. Готлиб, И. Даутов, Н. Измаилов, А. Кошкин, Р. Красновский, Е. Кушнерова, Н. Литвинова, М. Мдивани, В. Пальмов, Н. Родригес, В. Софроницкая, С. Штоббе, О. Юсова, сделавшие ценные замечания и дополнения. Прошу их принять мою благодарность. Огромная благодарность – ушедшим из жизни Н. Штаркману, Г. Гордону, А. Церетели и С. Белоглазову.
– ИСТОКИ РУССКОГО ПИАНИЗМА. Феномен русской пианистической школы
Русская пианистическая школа – явление, известное и почитаемое во всем мире. Насчитывающая в своем развитии всего около двух столетий – значительно меньше, чем аналогичные европейские школы, – она дала миру плеяду величайших музыкантов. Антон и Николай Рубинштейны, Анна Есипова, Феликс Блуменфельд, Владимир Горовиц, Лев Оборин, Григорий Гинзбург, Владимир Софроницкий, Мария Юдина, Эмиль Гилельс, Святослав Рихтер, Мария Гринберг, Яков Зак, Яков Флиер, Григорий Соколов, Михаил Плетнев – это далеко не все из имен величайших пианистов, прославивших русское искусство.
Как получилось, что за короткий исторический период в России возникло столь яркое явление? Ведь первые образцы фортепиано и его исторических предшественников завозили в Россию вельможи петровского периода – как забавную безделушку, модный в Европе предмет. В это время в европейских странах уже находились в зените школы клавесинистов и верджиналистов, создавались органные и клавирные шедевры Баха и Генделя, работали музыкальные учебные заведения, шла активная концертная жизнь. В России же еще даже в первой половине следующего, XIX века не было ни одного музыкального учебного заведения, а концертная жизнь состояла из любительского музицирования и редких гастролей иностранных музыкантов и то лишь в столицах, Москве и Петербурге.
Но уже через несколько десятилетий, в 70-е – 90-е годы того же XIX столетия, Петербург и Москва превратились в значимые на мировом уровне центры музыкальной культуры, а выпускники европейских консерваторий почитали за честь приехать в Россию и учиться у братьев Антона или Николая Рубинштейнов, а также других великих русских музыкантов – Василия Сафонова, Анны Есиповой, Феликса Блуменфельда. К рубежу XIX и ХХ столетий расцветали уникальные таланты композиторов-пианистов – Рахманинова, Скрябина, Метнера. Набирало силу исполнительское и педагогическое творчество Константина Игумнова и Александра Гольденвейзера – будущих глав московской пианистической школы. Бурный расцвет переживало и искусство российских исполнителей других специальностей: скрипачей, виолончелистов, вокалистов, хоровых дирижеров.
В ХХ веке российское исполнительское искусство, в том числе пианистическое, сразу заявило о себе как о чрезвычайно сильном и ярком явлении. Достаточно вспомнить, что победы на первых международных конкурсах в период между двумя мировыми войнами – то есть когда конкурсы уже набрали известность, но еще не произошла девальвация лауреатских званий, – одержали именно советские пианисты: Лев Оборин (1 премия Первого Шопеновского конкурса, 1927), Яков Флиер (1 премия Международного конкурса в Вене, 1936), Эмиль Гилельс (1 премия Конкурса им. Изаи в Брюсселе, 1938), Яков Зак (1 премия Третьего Шопеновского конкурса, 1937). Триумфально выступали в этот период и советские скрипачи, победители Брюссельского конкурса – Давид Ойстрах, Елизавета Гилельс, Борис Гольдштейн и другие. И это – в стране, только что пережившей революцию (и даже не одну), гражданскую войну, голод, разруху, массовую эмиграцию, в том числе великих музыкантов… Зарубежные критики не верили своим ушам: то, что демонстрировали молодые музыканты из России, полностью опрокидывало естественное представление о «гибели культуры» в СССР, особенно такого хрупкого искусства, как классическое музыкальное исполнительство.
Далее, на протяжении всего ХХ столетия, советские-российские пианисты поражали слушателей (и не только пианисты), собирали громадные аудитории, побеждали на множестве конкурсов. В советское время существовало ограничение «сверху» на количество конкурсов, в которых могли участвовать наши молодые музыканты. Но в постсоветский период, когда все ограничения оказались сняты, на Россию буквально обрушился поток лауреатов – вплоть до девальвации этого звания. И, хотя это явление общемировое, наши музыканты особенно часто действительно оказываются сильнейшими.
И не только в конкурсах дело. Еще с 1955 года, когда в США, к примеру, впервые приехал советский пианист – это был великий Эмиль Гилельс, – и громадные переполненные залы аплодировали стоя, а улицы американских городов стояли в пробках от жаждущих попасть в концертные залы, во всем мире стали ходить легенды о русских исполнителях. Вскоре мир узнал Святослава Рихтера, Владимира Ашкенази, Бэллу Давидович, Евгения Малинина, Лазаря Бермана, Дмитрия Башкирова, Наума Штаркмана, Григория Соколова, позднее – Михаила Плетнева и многих других ярчайших пианистов российско-советского происхождения. Феномен русской пианистической и – шире – исполнительской школы стали изучать специально. Попробуем и мы разобраться в том, почему, начав свое существование значительно позднее европейских школ, русская исполнительская школа заняла совершенно особое и очень высокое положение во всем мире.
Не вызывает сомнений то, что в громадной многонациональной России рождается много талантливых людей. Страна, давшая миру великих композиторов, должна быть богата и людьми, одаренными к исполнительству. Эти таланты, однако, нуждались в соответствующих условиях: сам собой классический исполнитель не вырастет.
Важнейшим событием в культурной жизни России и всего мира стало открытие первых русских консерваторий: Петербургской (1862) и Московской (1866), которое справедливо связывают с именами их фактических создателей – братьев Антона и Николая Рубинштейнов. Они сумели не только преодолеть громадные организационные и финансовые сложности, но и привлечь к преподаванию крупных музыкантов, что сразу определило высокий уровень новых учебных заведений. Кроме самого Антона Рубинштейна, в Петербургской консерватории вели педагогическую деятельность такие музыканты, как известнейшая во всем мире пианистка, ученица Ф. Листа С. Ментер; крупнейшая пианистка России и одна из звезд мировой величины А. Есипова (ученица Т. Лешетицкого); Л. Брассен (ученик И. Мошелеса); скрипач Л. Ауэр, виолончелисты К. Давыдов и А. Вержбилович. В 1871 г. начал свою многолетнюю работу в Петербургской консерватории Н. А. Римский-Корсаков.
В Московской консерватории сразу начали преподавательскую деятельность сам Николай Рубинштейн и приглашенный им по окончании Петербургской консерватории П. И. Чайковский. Занятия также вели известный музыковед и критик Г. А. Ларош, пианисты А. И. Дюбюк (ученик Дж. Филда), А. Доор (ученик К. Черни), К. Клиндворт (ученик Ф. Листа). Педагогами по классам скрипки и виолончели стали представители бельгийской, чешской, немецкой, австрийской школ Ф. Лауб, И. Гржимали, Б. Коссман, В. Фитценгаген. Через несколько лет после открытия преподавательскую деятельность начал один из лучших выпускников Московской консерватории С. И. Танеев.
Следует также отметить, что еще до открытия консерваторий по инициативе Антона Рубинштейна было основано ИРМО – Императорское русское музыкальное общество (его московское отделение открыл Николай Рубинштейн). Это была мощная организация, занимающаяся как устройством концертов и гастролей, так и проблемами музыкальных учебных заведений, ведущая музыкально-просветительскую деятельность. По «линии» ИРМО стали открываться и другие музыкальные учебные заведения – училища и школы.
Все это было очень важно, однако определенная загадка того, каким образом из отсталой в смысле классического музыкального образования и профессиональных исполнительских школ страны Россия за очень короткий период превратилась в одного из лидеров, осталась. Корни такого явления наверняка следует искать гораздо глубже.
Еще задолго до создания профессиональных музыкальных учебных заведений музыкальный талант народа находил иные пути. Из русской литературы мы знаем, что уже в начале XIX столетия в дворянских семьях существовала практика обучения детей, в том числе девочек, обучению игре на клавесине или фортепиано, для чего приглашались учителя-иностранцы. Обучали игре на музыкальных инструментах и в многочисленных немузыкальных учебных заведениях: были созданы «клавикордные классы» (впоследствии фортепианные) в Московском университете, Смольном институте, Академии художеств, Университетском благородном пансионе, Петербургском и Московском воспитательных домах; позднее – в Петербургском, Казанском, Харьковском и других университетах. Фортепианные классы также действовали в столичных и провинциальных гимназиях, кадетских корпусах, лицеях, пансионах и т. д.
В этот период заметную роль в становлении музыкального исполнительства и педагогики сыграли учителя-иностранцы, среди которых был знаменитый ирландский композитор и пианист Джон Филд, а также такие музыканты, как немецкий пианист Адольф Гензельт, имевшие французское происхождение Александр Дюбюк и Александр Виллуан. Все это вносило свой вклад в будущий расцвет русского пианизма.
Заглянув в отечественную историю еще дальше, вспомним про многочисленных крепостных музыкантов, с одной стороны, и музыкальные салоны в среде высшего дворянства – с другой («музыкальные собрания» М. Виельгорского, В. Одоевского, З. Волконской и др.). Существовавшие тогда законы косвенно запрещали дворянам заниматься оплачиваемой сценической деятельностью, отчего и существовало такое разделение: те, кто имел материальные возможности профессионально учиться музыке (дворяне), не могли выступать на сцене; а имевшие такое право простолюдины сталкивались с громадными трудностями иного рода – им не на что было учиться, и они зависели от своего барина. Однако жажда заниматься музыкой была присуща всем слоям российского общества уже тогда.
Двигаясь еще дальше, мы обнаружим истоки того свойства, которое и поныне считают отличительной чертой русской исполнительской школы. Зародившаяся еще на заре христианства на Руси традиция церковного знаменного пения («Богослужебного пения») расскажет нам о приоритете содержания, т. е. эмоционального начала, над техникой. Древние русские певчие могли не очень точно соблюдать технику (ведь на Руси и знаменная письменность была особая, отличающаяся от европейского нотного письма) или даже петь только «по обычаю» (т. е. не зная музыкальной грамоты). Но зато они были обязаны душой соответствовать тому, что они пели: не совершать плохих поступков, ощущать Божественное в себе.
Соединив это исконно русское свойство (это вообще одна из глубоких традиций русской культуры) с высокой западноевропейской техникой и «школой», Антон Рубинштейн и его последователи сумели задать направление русской исполнительской школе в широком смысле. Имея уже к моменту создания консерватории в России мировое имя, А. Г. Рубинштейн направил весь свой авторитет и все гигантские возможности на то, чтобы богатая талантами Россия получила профессиональную музыкальную традицию. Его инициатива была подхвачена Николаем Рубинштейном, осуществившим все то же самое во второй (тогда) столице – Москве.
Таким образом, великая культура в соединении с талантливостью многонационального народа и усилиями великих музыкантов-просветителей создала сильное и яркое явление, поражавшее слушателей на протяжении всего следующего, ХХ века и далее. Те громадные исторические потрясения, через которые пришлось в ХХ веке пройти России, не только не делали музыкантов-исполнителей слабее, но и каким-то образом придавали им силы, сообщая их искусству трагичность и содержательную наполненность.
Русская пианистическая школа на рубеже ХIХ и ХХ веков и влияние на нее политических событий
Отсчет существования самостоятельной российской фортепианной школы справедливо ведут от основоположников отечественного профессионального музыкального образования братьев Рубинштейнов. Помимо организаторской и музыкально-просветительской деятельности, они занимались собственно педагогической работой в области фортепианной педагогики.
И Антон, и Николай Рубинштейны требовали от учеников прежде всего передачи содержания исполняемых произведений. Для этого необходимо было интенсивное общемузыкальное и интеллектуальное развитие учащихся, чему посвящалось немало усилий и в классах Рубинштейнов, и вообще в созданных ими консерваториях. Вместе с тем большое значение придавалось и технике исполнения, без которой искусство пианиста не существует. Органичное сочетание художественного воспитания и обучения технике исполнения, в котором первое место занимает содержание, – важнейшая особенность педагогики Рубинштейнов, ставшая традицией для российской фортепианной педагогики в целом.
Еще одно свойство искусства великих братьев – стремление к «пению» на фортепиано, высочайшая культура звука, идущая от русской певческой традиции и продолжающаяся и ныне в российской фортепианной педагогике.
Педагогическая деятельность Антона Григорьевича Рубинштейна (1829 – 1894) протекала, в основном, в Петербургской консерватории. Он возглавил ее сразу после открытия, затем ряд лет посвятил интенсивной композиторской и исполнительской деятельности, связанной с гастрольными поездками по всему миру, а в 1887 г. вновь вернулся к директорству в консерватории.
Самый известный из учеников Антона Рубинштейна – великий пианист Иосиф Гофман, учившийся у него частным образом в Германии. Он писал о своем великом учителе в своей широко известной книге «Фортепианная игра»: «Его способ преподавания был таков, что делал всякого другого учителя в моих глазах похожим на школьного доктринера. Он избрал метод косвенного наставления посредством наводящих сравнений. Он касался музыкального в строгом смысле лишь в редких случаях» [29. С. 39].
В то время как для Антона Рубинштейна с его гигантским размахом деятельности педагогика была все же не основным занятием, его младший брат Николай Григорьевич Рубинштейн (1835 – 1881) посвятил ей всю жизнь. Один из его учеников, выдающийся немецкий пианист Эмиль Зауэр, после Николая Рубинштейна учился у Листа и, тем не менее, говорил впоследствии, что не знал педагога лучшего, нежели Николай Рубинштейн.
Среди множества учеников Николая Рубинштейна наиболее крупные фигуры – Эмиль Зауэр и Александр Зилоти, а также Сергей Иванович Танеев, замечательный русский композитор и пианист, ставший продолжателем также и педагогической линии Николая Рубинштейна.
Сергей Рахманинов, пианизм которого формировался на основе исполнительских традиций братьев Рубинштейнов, занимался у А. И. Зилоти, ученика Николая Григорьевича. Помимо этого, Рахманинов был связан с Н. Г. Рубинштейном и по другой линии – через Танеева, в теоретическом классе которого он обучался. Есть основания утверждать, что музыкально-педагогические методы Николая Григорьевича – тоже через Танеева – были восприняты, получили живой отклик и развитие также и у другого воспитанника Московской консерватории – Леонида Николаева, ставшего впоследствии основоположником ленинградской пианистической школы [4].
В послерубинштейновский период российская музыкальная педагогика интенсивно развивалась. Из Петербургской и Московской консерваторий вышло немало ярких педагогов, прежде всего пианистов.
В ряду крупных педагогов-пианистов конца ХIХ – начала ХХ вв. выделяются три фигуры: Анна Николаевна Есипова, Василий Ильич Сафонов и Феликс Михайлович Блуменфельд.
Анна Николаевна Есипова (1851—1914) была одной из крупнейших пианисток мира. Последние двадцать лет жизни она посвятила преимущественно педагогической деятельности, и этот период в Петербургской консерватории называют «есиповским». Ее известность как блестящего педагога перешагнула границы России, и заниматься у нее, помимо молодых российских музыкантов, приезжали также пианисты, окончившие Парижскую, Берлинскую, Лейпцигскую консерватории.
Об уровне педагогической деятельности Есиповой говорят имена ее учеников. Прежде всего, это один из музыкальных гениев ХХ века Сергей Прокофьев, получивший у Есиповой пианистическую школу, во многом отразившуюся впоследствии на фактуре его фортепианных сочинений. Несмотря на то, что Прокофьев писал на музыкальном языке ХХ века, его музыке свойственны элегантность и филигранная отделка деталей, характерные и для искусства Есиповой. Среди учеников Есиповой также столь известные музыканты, как Александр Боровский, Ольга Калантарова, Наталья Позняковская, основательница грузинской фортепианной школы Анастасия Вирсаладзе; Изабелла Венгерова, учениками которой в филадельфийском Кертис-институте были впоследствии ставшие классиками американской музыки Леонард Бернстайн и Сэмюэл Барбер. Примечательно, что многие ученики выдающейся пианистки становились не только концертирующими артистами, но и педагогами. Это также является педагогической заслугой Есиповой.
Ярчайшей личностью, крупным музыкантом и выдающимся педагогом был Василий Ильич Сафонов (1852 – 1918), многие годы возглавлявший Московскую консерваторию в качестве директора. Восприняв лучшие традиции Рубинштейнов, касающиеся содержательного исполнения и высокохудожественного репертуара, Сафонов развил их. Его педагогические усилия были направлены на активизацию мышления учащихся в процессе овладения игрой на фортепиано.
Традиционная методика обучения игре на фортепиано, доминировавшая во второй половине ХIХ в., предполагала обязательные многочасовые ежедневные упражнения и повторения отдельных элементов разучиваемых произведений. Большая часть повторений должна была производиться механически, без участия мышления.
Сафонов увидел в методических положениях педагогическую проблему: работа, проводившаяся механически, не только не давала необходимых творческих результатов, но и отрицательно влияла на формирование личности учащихся, тормозила их интеллектуальное развитие. Это, в свою очередь, вновь оборачивалось недостатками в исполнении: нелогичностью, непродуманностью структурных элементов исполняемых произведений, непониманием художественной цели и вытекающим отсюда неумением ее воплотить.
Сафонов создал свою методику и собственные упражнения, которые длительное время использовались им на практике и в 1916 г. были опубликованы под названием «Новая формула. Мысли для учащих и учащихся на фортепиано». Среди многочисленных сборников методический опус Сафонова – явление редкое потому, что предлагаемые в нем упражнения просто невозможно сыграть механически – такова их структура. Если до тех пор педагоги в лучшем случае ограничивались рекомендациями упражняться внимательно, то формулы Сафонова представляли собой упражнения не только и не столько для пальцев, сколько для ума.



