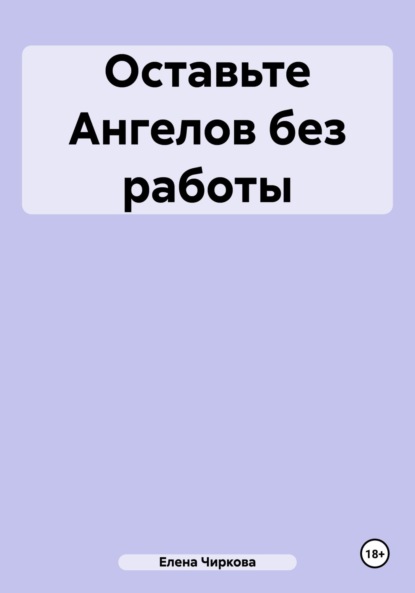
Полная версия:
Оставьте Ангелов без работы
– Чё ты сказала? – стиснув челюсти, как встревоженная гадюка, злобно зашипела Мариша.
– Ты женатого мужика в дом водишь! Все в Бараке про это знают, – не унималась я, – ненавижу тебя!
– Ах, ты, сикавка, малолетняя! -
разъяренная с искривленным ртом, мать подскочила ко мне. Со всей силы, наотмашь влепила мне пощечину. – Говорила мне Надька Бомбовозиха аборт сделать, так я не послушалась. Родила, на свою голову! Теперь мучаюсь.
Капля крови выкатилась у меня из носа.
Потом ещё и ещё.
Накинув пальтишко, я выскочила на улицу.
***
По вторникам у меня в клубе танцевальный кружок. И мать, в последнее время, исправно следила за моим расписанием.
Случки с председателем происходили у нас в доме. Потому и зиял сегодня морковным цветом орущий Маринин рот.
– Так… Сегодня вторник, а значит, любовничек к нам пожалует, –
в лихорадочном нервном запале, соображала я, шлепая напропалую по мартовским лужам. – Я вам устрою свидание!
Клуб наш, брусчатый прямоугольник с серой шиферной крышей, являлся местом окультуривания сельского населения.
По пятницам здесь крутились магнитофонные кассеты, с модными песенками, под которые алчно вращал зеркальными глазами дискотечный шар.
А по будням – велись кружки рукоделия и танцев.
Ещё здесь показывали кино.
Мы, воспитанницы танцевального кружка, к восьмому марта разучивали «Кадриль». Свою преподавательницу, и заведующую клубом, мы за спиной называли Кнопа. Видимо, потому что по мнению селян, – это был более лояльный, созвучный вариант к слову «Жопа».
Размер Кнопиной жопы и, впрямь, впечатлял.
А, кроме того, она слыла у нас главной модницей. Первой испытала на себе перекись водорода и шестимесячную химическую завивку.
***
Кнопа меня недолюбливала. Я была резковатой в движениях, плохо скоординированной.
А Кнопе нужен был результат, потому что наш танцевальный коллектив регулярно участвовал в разных конкурсах, в райцентре.
– Геля ваша на медведя, заведенного механического, похожа, –
жаловалась Кнопа маме Марише.
– Всем нужны удобные дети, – зло огрызалась мать, – а вы медведя плясать научите!
– А я не в цирке работаю.
– Ага… в цирке бегемотихи не выступают.
После такого обмена любезностями моей матери с учительницей танцев, я шла в клуб и плясала «Кадриль».
***
– Кадриль давно забытая…гитарами забитая… – услыхала я ещё с улицы завязшую в мозгах мелодию.
Не здороваясь с девчонками, я юркнула за пыльный занавес. Там, за сценой находилась комната, которую Кнопа называла помпезным словом «гримерка». Вход туда «простым смертным» был строго воспрещен. В гримерке имелся телефон. Я дерзко ввалилась в запретное помещение.
Кнопа стояла у зеркала и массажной расческой делала начес на пергедролевых волосах.
– Ты чё без стука? –
оторопело выкатила на меня глаза удивленная Кнопа, – стучаться нужно!
– Мне позвонить, –
Подскочила я, к утомленному человеческими разговорами, измызганному серому аппарату. – Где у вас здесь номерная книга?
– А ты кому звонить собралась? Отвечай. А то книгу не дам.
– Мне в магазин позвонить нужно.
***
Кнопа замерла.
Она мигом смекнула, в чем дело.
Завклубом терпеть не могла мою мать. И знала о её связи с председателем. Мой порыв сулил Кнопе хороший куш в виде мести. Она поняла, что запахло скандалом, который был ей на руку. И не стала мне мешать.
– Ладно. Набирай цифры. Я продиктую, – картинно вздохнула она.
Телефонный круг затрещал.
– Алло, – послышалось на том конце провода.
Я уставилась на Кнопу.
– Ладно уж, – выплыла она за дверь, притаившись с обратной стороны.
– Ваш муж, председатель, сейчас находится у Марины Скороходовой, – твердым чужим голосом сообщила я в трубку. – Он её любовник.
***
Слово – не воробей, вылетит, не поймаешь. Я пожалела о содеянном сразу, как повесила трубку.
Моя бурлящая злость, как назревший фурункул, вырвалась наружу гнойным потоком слов, и утихла. Исчезла.
Из гримерки я уже уходила разочарованная собой, расстроенная, больная.
– Ну, чё, дозвонилась? –
прищучила меня Кнопа. Как будто, не подслушивала, стоя за дверью.
– Нет, – соврала я и шмыгнула за другую сторону занавеса, на сцену.
– О, Скороходова, – вылупились на меня девки, сидящие в зрительном зале. – А чё не начинаем?
– Щас начнём, – отмахнулась я и, спустившись со ступенек, направилась к выходу.
– А ты куда? – удивленными взглядами провожали меня подружки.
– Щас вернусь, – бросила я, чтоб отвязаться от назойливых вопросов и хлопнула дверью.
***
Домой мне было нельзя.
Я пошла к Нельке Шулятьевой.
Вообще-то мою одноклассницу звали красивым именем Нинель. Если читать это имя задом наперед, получится Ленин. Вождь пролетариата. Имя Нельке придумала мать, которую в деревне все звали Шулятьихой.
Теперь Шулятьиха исправно отрабатывала свою сопричастность к идеям вождя на молочно-товарной ферме.
Было время вечерней дойки, поэтому Нинель, в этот час, домовничала одна.
– У тебя есть чё-нибудь вкусненькое? –
ввалившись в дом без приглашения, спросила я у Нельки. – Жрать хочу.
– Так у нас опять «шаром покати». У матери на работе сегодня контрольная, а мне лень готовить, – распахивая, буфет, огорчилась Нинэль, – хлеб есть. Хлеб будешь?
-А че у коров тоже контрольные бывают? –
по-хозяйски заглянув в холодильник, спросила я, – а чё это у тебя в банке? Огурцы соленые?
– Огурцы. Хочешь? –
не дожидаясь ответа, выволокла трехлитровую банку на стол Нелька. – Контрольный удой, он у коров, а не у доярок. Надо же знать, сколько каждая корова даёт молока.
– А что если мало? Корове двойку поставят?
Мы с Нелькой весело расхохотались. Боль недавних событий утихла.
Я снова почувствовала себя ребёнком.
Мы уселись за стол и, морщась, принялись лопать сильно солёные огурцы с грубым ржаным хлебом.
***
– А ты чё не танцуешь? –
спохватилась Нинель, – у тебя ж по вторникам «Кадриль».
– Надоело. Кнопа задолбала, всё ей не так, – откусив огурец, с набитым ртом, напропалую врала я, стыдясь признаться в содеянном. – Разоралась опять, что я всё порчу… Да пошла она. Не пойду туда больше.
До прихода Нелькиной матери, мы провалялись у телевизора. Он вещал всякую «муть», ну и пусть.
Мы сплетничали о школе, и нам было всё равно.
Но вот открылась входная дверь, и на пороге показалась Шулятьиха.
Это была огромная веснушчатая женщина, с круглым красным, обветренным лицом, с сильными, как у мужика руками. От неё тошнотворно пахло навозом и силосом, подгнившим по весне.
Люди в нашем селе опасались показываться на глаза Шулятьихе, старались избегать встреч с ней.
И вовсе не из-за её угрожающего вида и ядреного запаха. Дело в том, что Нелькина мать слыла первой сплетницей на деревне. Любая информация о человеке, в устах у бессовестной трындычихи, могла обернуться против него самого.
– Нелька, почему со стола не убрала? –
с порога кинулась воспитывать дочь, громогласная тётка, – поесть поели, а убирать я буду? А ты Гелька, зачем по ночам шатаешься? Мать за тобой совсем не смотрит?
– Смотрит, – стала напяливать я пальтишко.
– Да вы хлеб весь сожрали! – разъярилась Шулятьиха, пройдя на кухню и сунувшись в буфет. – Я голодная как собака, а дома ни куска хлеба нет!
– Простите, – виновато пискнула я и выскользнула из дома.
«Что ж это за вторник-то такой? – шла и думала я, – проклят он что ли?».
Домой я вернулась затемно. Марина лежала в постели, отвернувшись в стене.
– Может быть, все обойдется? – думала я, – а может мне этот вторник во сне приснился?
***
Председательша унизила Марину прилюдно.
Специально, чтоб проучить, как следует, чтоб побольнее было. В среду, с утра пораньше Тома Рыжая ворвалась в приютскую столовку, накинулась на мать с кулаками, подбила глаз, выдрала с «мясом» пуговицы на белом накрахмаленном халате.
– Как, тебе, ****ине, не стыдно? У тебя же дочка взрослая. Всё понимает, –
орала продавщица.
Надька Бомбовоз, шваброй разгоняла по палатам приютских детей. Разгонять разгоняла, а сама думала: «Так Маринке и надо: любишь кататься, люби и саночки возить».
– До чего ж, сучка ты смазливая, девчонку довела? По телефону мне звонит, просит, приезжайте, пожалуйста… – не унималась председательша. Она нарочно давила на моё предательство, чтоб Маришу окончательно распять. – Может дочку свою решила под мужа моего подложить? Чтобы втроём кувыркаться? Сама –то уж поистаскалась. Одна мужика не потянешь!
Мариша подскочила к ведерной кастрюле, булькающей на плите, с надписью «каша» на жестяном боку.
– Уходи! – нечеловеческим голосом завопила она, – убирайся, а то кипяток на башку вылью!
***
Сарафанное радио молчать не стало.
Как говориться, на каждый роток не накинешь платок.
Меня новость о расправе Рыжей Томы над матерью застала днём, после того, как уроки в школе закончились. Я шла по направлению к дому. И помню, что чувствовала себя отвратительно. На душе скреблись кошки.
Мой путь пролегал мимо магазина.
Ещё издали я увидела, что у сельповского крылечка толпятся Шулятьиха, Надька Бомбовоз и ещё несколько деревенских тёток.
Холодок пробежал у меня вдоль загривка, когда я почувствовала на себе их цепкие, выворачивающие нутро, любопытные взгляды.
Конечно, они обсуждали мою мать.
Как только я начала приближаться, жоп-кружок, затаился, притих.
– Ты, Геля, из школы идёшь? Значит, дома ещё не была? – у Бомбовозихи, у первой прорезался голос, – маму ещё не видела?
– А что? – ослабев вдруг от накатившей волны страха, выдавила я из себя, «глухие» невнятные слова, – а что?
– Да, нет, ничего. Не бойся. Ничего не случилось, – успокоила меня Бомбовоз, – мама твоя прихворнула. Отлежится немножко и всё хорошо будет.
***
Я собралась было пройти мимо, но мне не дали.
– Говорят, это ты тёть Томе – то позвонила? –
пошла напролом Шулятьева, – говорят, твой голосок в телефонной трубке-то прозвучал.
Я стояла, молча таращила глаза.
– Не напирай на девчонку, -
вступилась Бомбовоз, – мала она еще, чтобы со взрослыми разговоры разговаривать.
– А доносить на свою родную мать не маленькая? –
съязвила Шулятьха, – ну и змею же Маринка у себя на шее пригрела. Так ведь сама виновата. Одевает девку едва-едва. Не кормит. Вон, пришла вчера к нам, голодная, как собака. Хлеба ей дали, так она его весь, до крошки, съела.
– Неправда это! Вы врёте, –закричала я, – мама меня нормально кормит. Она вообще ни в чём не виновата!
– Ага, не виновата, – хмыкнула Шулятьиха, – сука не захочет, кобель не вскочит.
***
Я стояла и чувствовала, как нарастало во мне желание ножом вспороть себе вены, отомстить себе самой за предательство матери.
Нужно было торопиться, сделать это прямо сейчас.
Я бросилась к дому. Вбежала в нашу коморку. Марина лежала в той самой позе, что и вчера.
«Спит, – подумала я, – если резать вены, больно будет, вдруг наделаю шуму?».
Я решила наглотаться таблеток, тихонечко вытянула из серванта коробку с лекарствами, утащила её на кухню, потом принялась лихорадочно выколупывать разнокалиберные «шайбочки» из упаковок. Складывала их в пригоршню, резко закидывала в горло, запивала водой.
Я уже не соображала, что делаю, когда почувствовала, как Марина больно сдавила мне запястье.
Потом всё было, как в тумане.
Мать, согнув меня в животе, сунула в мой рот свою руку.
Я блевала на пол жёлтой воздушной пеной (в школе давали яичницу). В пене плавали не успевшие раствориться таблетки, похожие на катышки пенопласта.
***
Конечно же, я осталась жива.
Мариша много лет проработала в приюте. Пусть в столовке. Но первую помощь оказать она мне смогла.
И всё же, с тех пор, мои отношения с матерью окончательно разладились.
Она не устроила мне разборок, не плакала, не кричала.
Зато ходила недоступная, холодная, молчаливая. Мне казалось, что с того самого дня она принялась ждать, когда я уеду. Это был хороший выход для нас обеих.
Я любила мать.
Но как «растопить лёд» не знала. Марина не шла на сближение. Я чувствовала себя ненужной, заброшенной, одинокой.
Что мне оставалось делать?
Я стала мечтать о том, чтобы поскорей закончить восьмилетку и уехать в город, поступать в кулинарное профтехучилище.
Глава 4
Вот уже неделю я пакую чемодан. Билет на рейсовый автобус до областного центра куплен, третий день он лежит в почётно – укромном месте, в деревянной шкатулке, стоящей в серванте.
Моя юность совпала с девяностыми, потянувшими за собой телевизионные сеансы Кашпировского, нескончаемые сериалы про «Просто Марию» и «Рабыню Изауру», новых русских в «малиновых» пиджаках, крутой разгул мошенников и хулиганов, а также повальный дефицит.
Однако, все перечисленные компоненты были, как соль и перец к жизненному блюду почти всякого тогдашнего человека. И городская весёлая пора мелькала передо мной счастливыми днями, подобно камушкам в игрушечном калейдоскопе. Я молодой козой спешила везде успеть. И успевала.
В общежитии, где я тогда поселилась, нас, студенток-поварих дразнили «поварёшками». Ещё говорили, что все «поварешки», рано или поздно, обязательно растолстеют, и что, дескать, у нас от горячо дышащих плит всегда морды красные.
Я нисколечко не сердилась на будущих швей-мотористок, и парикмахерш. Выбранная профессия мне очень нравилась. Я мечтала варить наваристые харчо и рассольники огромными кастрюлями в рабочей столовой.
Примерно, как Тося в фильме «Девчата».
Мечтала, что за моими обедами будут захаживать молодые сильные парни с соседней стройки, а я, Ангелина Скороходова, тут как тут.
– Вам, шницель или рыбную котлетку, молодой человек? – вежливо спрошу я изрядно проголодавшегося красавца.
– И то и другое, – ответит он, с взволнованным интересом вглядываясь в мое лицо. – Ещё борщ.
А я, плюхнув в бардовый свекольный суп двойную порцию сметаны, зардеюсь вдруг щеками и томно качну, уже начавшим округляться, соблазнительным женским бедром.
Парень отведает вкусной стряпни, и поведет меня за собой, в светлые заоблачные дали.
Примерно так, незатейливо, представлялась мне моё будущее.
Но и настоящая жизнь была неплоха. В общежитской комнатке, обустроенной на четверых, было хоть и «кучно, зато не скучно».
– Ну что, девчонки, настроенье каково? – каждое утро орала я свою коронную речёвку.
– Во!!! – вопили девчонки, вытянув вперед большой палец правой руки.
Мы делились вкусной картошкой, виртуозно поджаренной на сале, продающемся тогда в магазинах в виде белёсых прямоугольных глыб. Учили друг друга, делать лак для волос из воды с сахаром, а тени для век – из глазури, отшкрябанной от новогодних игрушек. В общем, дружили.
Особо крепкие отношения у меня сложились с Наташей Синицыной, девушкой скромной, душевной и очень красивой.
У Наташи русая коса болталась ниже попы.
Я же, коротко стриженная, порывистая в движениях и суждениях, внешне смахивала на пацанёнка. Врождёной женской нежности – вот чего мне не хватало.
Конечно, дружить с такой привлекательной девушкой, как Наташа Синицина, было испытанием нелёгким. Но Синицына была столь неискушенной в сердечных делах, так наивно таращила голубые глазища на парней, желающих с ней познакомиться, что я прощала Наташке её острую конкурентноспособность на брачном рынке.
***
Тем не менее, провокационность внешнего облика Наташи Синицыной, сыграла-таки с нами злую шутку.
Всё началось с моего безобидного увлечения творчеством молодого и прехорошенького певца Димы Маликова.
Всю зиму я скупала, аляповатые, размноженные барыгами фотографические карточки, сладко улыбающегося, эстрадного дарования. Потом затаила мечту сходить на его концерт. Когда за месяц до выступления заезжего артиста, город запестрил призывными афишами, я потеряла покой, складывая сэкономленные со стипендии копеечки в нарядный почтовый конверт, подгоняя приход желанной весны.
Кроме того, у Наташи Синицыной в апреле был день рождения, и я решила, что куплю, конечно же, два билета. Один себе, другой – Синициной. в подарок.
«До завтра. Прощальных слов не говори», – напевала я, а время катилось к апрелю.
И вот тот день настал.
Шмотки мы собирали со всей общаги, девчоки делились, кто чем мог. Я взяла напрокат «варёную» джинсовую юбку, Синицина – чёрные блестящие лосины.
В тесной комнате полдня простоял запах жжёных волос. Это я накручивала на раскаленную плойку Наташкины волосы.
– Ой, больно, ай! – который раз за сеанс взвизгнула Синицына, – ты ж мне ухо прижгла! Не могу я больше! Голова болит!
– Ничего. Потерпишь, – осекала я подругу, взволнованная предстоящим событием, оттого неосторожная в движениях. Красота требует жертв!
Наконец, я перекинула через руку, лёгкую ветровку, Наташка взяла зонт, и мы отважно ринулись навстречу счастью.
***
Наше профтехучилище вместе с общагой находилось на окраине города. Поэтому в центр мы ездили на электричке, без толкотни и быстро. Чтобы пройти к железнодорожной станции, нужно было подняться по деревянной лестнице, преодолев огромное множество ступенек, потому что общежитие находилось на горке, а станция – под горкой.
Местные ненавидели этот спуск – подъем. Говорили, что в темноте здесь сам чёрт ногу сломит. И правда, фонари, когда-то натыканные вдоль лестницы, горели через один. Особо натруженные ступеньки прогнили и провалились, поэтому продвигаться вперед нужно было, крепко вцепившись в шаткие неблагонадежные перила.
Но мы, я и Наташка Синицына, были молоды, легки и бесстрашны. Нам море казалось по колено. Подумаешь, лестница…
У вокзала пожилой усатый грузин продавал гвоздики. Цветы стояли в стеклянном ящике, внутри которого воздух грела толстая парафиновая свечка.
– Дэвушки, покупай гвоздик! – призывно замахал руками продавец, увидав, как мы с Синицыной «в пух и прах» разряженные, ярко размалёванные, чинно следуем к вагону.
– Наташка, а давай-ка по цветочку купим, – озарило меня, – в конце концерта к самой сцене проберёмся. Ну, чтоб гвоздики Диме подарить.
– Давай, – кивнула Наташка.
Сказано – сделано, совершив с цветочником сделку, мы заскочили в вагон.
Электричка тронулась. А мы, хоть и пялились в окно, но мысленно были уже далеко от этого места. А грузин все махал и махал нам алой гвоздичкой, с переломленным
посредине позвоночником-стебельком.
***
С этого момента всё пошло не так.
Конечно, к сцене нас не пустили. Угрюмые милиционеры строго блюли порядок, они следили, чтоб оголтелое «море» по-боевому настроенных девиц не вышло из берегов. Конечно, особо прыткие фанатки нет – нет, да и норовили пуститься в пляс, вырвавшись из оков своего билетного места, в проход между рядами. Но стражи порядка тут же возвращали их в исходную позицию.
Это разочаровывало. Зачем нужны песни Димы Маликова? Чтобы танцевать, дергаться, кривляться, извиваться! Но делать это категорически запрещалось. Поэтому мы сидели и с унылой покорностью слушали зажигательные композиции певца.
Когда концерт закончится, мы с Наташкой, слегка обиженные, с измочаленными в мокрых ладонях гвоздиками, ринулись к выходу.
Однако, покинув толпу, и вдохнув целебного весеннего воздуха, мы вновь наполнились безмятежной молодостью и галопом понеслись на железнодорожную станцию, чтобы успеть на последнюю электричку.
Мы успели. Запрыгнули и поезд тронулся. Всю дорогу мы обсуждали концерт, не заметив, как пролетело время пути, и вышли на своей станции.
Перрон был пуст. Цветы, по-видимому, уже никого не интересовали, и грузин ушёл домой, спать.
Нужно было взбираться по лестнице.
Накрапывал весенний дождик, но мы не прятались под зонт, не спешили. Тихонько друг за другом карабкались вверх, цепляясь за перила, вполголоса напевали: «Ты одна. Ты такая. Я тебя знаю…».
В темноте нарисовался силуэт человека.
Навстречу, расхлябанной походкой, шёл парень. В руке – открытая бутылка пива.
Он, наверно, прошёл бы мимо.
Но Наташка шла впереди.
Парня впечатлили выпущенные на волю Синицынские волосы. Белокурые льняные локоны свисали почти до колена. Парень опешил.
– Ого, вот это русалочка! Пипец эффектная. Может, познакомимься?– без обиняков пошёл на таран впечатленный парень, перегородив собою путь. – А я Олег Чертанов. Можно просто Чёрт. А тебя как звать, красивая?
– Не твоё дело! – понимая, что вопрос адресован не мне, борзо огрызнулась я, запихивая оторопевшую Наташку себе за спину.
– А ты, облезлая, заглохни. На вот, пока подержи, – хулиган впихнул мне в живот откупоренную бутылку с пивом, – а я красавицу обниму.
– А ну, вали-ка ты отсюда, – вплотную приблизилась я к вставшему поперек дороги и начинающему сердиться Чёрту.
Я ни капельки не боялась. Нас с Наташкой двое, он один. До общаги – рукой подать. Днём отсюда сетку с пакетом молока, перекинутую через форточку на улицу, разглядеть можно.
Я с силой пихнула нетрезвого парня в грудь, он качнулся, пивная бутылка хрястнула о железные перила. Я протиснулась сквозь обескураженного врага, побежала вверх, по ступенькам. Но вечно меланхоличная Наташка замешкалась. Встала, как вкопанная. Парень воспользовался её заминкой, схватил за предплечье.
Я обернулась. Увидела, что дело – дрянь, решила действовать уговорами.
– Отпусти её, – как можно тверже потребовала я, – у неё отец – мент, он из-под земли тебя достанет.
– Правда, мент? А у меня космонавт, – пьяно ухмыльнулся Чёрт, сильнее сжимая руку Синицыной, – не видно, что ли, что общаговские?
Наташка беспомощно пискнула, по ее искажённому от ужаса лицу покатились слёзы.
– Ладно, чего ты хочешь? – стараясь не поддаться панике, спросила я у Чёрта.
– Её, – вожделенно залыбился насильник, и указательным пальцем оттянул Синицинскую кофточку, заглянув под горловой прём, туда, где находится лифчик.
Синицына заверещала.
– Эй, бандюга! Ты чё делаешь? – рассвирепела я и со сжатыми кулаками ринулась на Чёрта.
– А ты, курица ощипаная, давай в общагу шлепай, – с силой пнул мне под колено пьянчуга. – Вали в свой курятник.
От боли я присела. На несколько секунд повисла пауза. Чёрт успел подумать. Вообще-то, насильником он не был. Но он был пьян. Его тянуло на подвиги. Весна, к тому же, гормоны играют. А длинноволосая девчонка ему, и впрямь, очень понравилась. Если б курица не начала борзеть, он просто шёл бы с русалкой до самой общаги, перекидывался словечками о том, да о сём, развёл бы красавицу на свидание и, по-честному, ждал бы её завтра с махровой белой розой.
Влипать же в уголовку Чёрту точно не хотелось.
– Да вы обе меня уже бесите. А ну, давай, шевели колготками, – отпихнув от себя Наташку, вскипел он. – Валите обе, шалашовки.
Этим бы дело и кончилось.
Но тут случилось необъяснимое. Меня как будто бес попутал. Я схватила с земли булыжник и запустила им в Чёрта. Видимо, хотела отомстить за облезлую курицу и за шалашовку тоже.
Чёрная медленная струя брала свое начало где-то над бровью парня. Он оторопело потрогал лоб, вляпался пальцами в кровь. Вытер руку о штанину.
Оттолкнув Наташку, Черт подскочил ко мне. Стальными пальцами вцепился сзади за шею. У меня от железной хватки перехватило горло. Я закашлялась, поперхнулась, туфель сполз с правой ноги, остался лежать на ступеньке беспомощный и одинокий.
Быстро зацокали Наташкины каблуки. Она убегала.
Проезжая дорога, пролегающая мимо злополучной лестницы, осветилась вдруг фарами. Подпыхивая на рытвинах, сквозь темноту пробиралась машина. Я мгновенно решила: «Была, не была». Собравшись с остатками сил, я остервенело рванула вперед.
Вырвавшись из лап взбешённого Чёрта, я сиганула наперерез легковушке. Запнувшись за бордюр, рухнула поперек дороги.
Машина завизжала в смертельном испуге, подпрыгнув, остановилась. Я лежала на животе в метре от неё. Машина, замерев, стояла с минуту на месте, потом аккуратно сдала назад, объехала меня справа и была такова.



