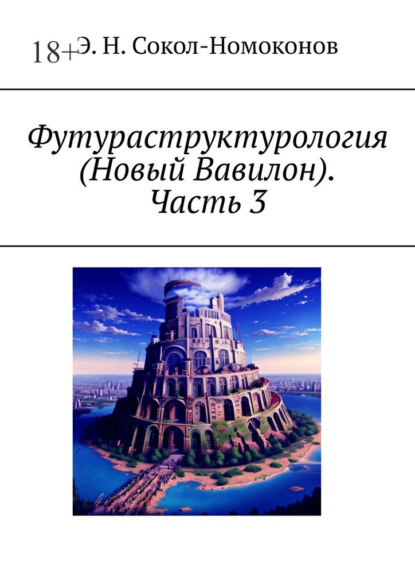
Полная версия:
Футураструктурология (Новый Вавилон). Часть 3
Все эти изменения до недавнего прошлого воспринимались нами как проявления самого сложного в обозреваемом нами мире спонтанного природно-общественного процесса. Внешнее управление этим процессом осуществлялось человеческими сообществами стихийно, без глубокого осознания его последствий. Развитие естествознания позволило переоценить масштабы видоизменения индивидуума, что и породило проблему антропотрансформирования.
Под антропотрансформированием мы можем сегодня понимать любое искусственное изменение внешнего облика и внутреннего строения и функционирования человека, не выводящее его за пределы антропоцентристских представлений. Поскольку мы не очень понимаем, где заканчивается человек, мы не можем определить и разумные границы антропотрансформирования. Весьма условным для нас ограничивающим критерием остается представление о человеке нашего биологического вида. Однако мы осознаем возможность его эволюционного развития (также ускоренного искусственными генетическими изменениями), а значит, допускаем и его радикальную изменчивость.
Исторически первым опытом воображаемого антропотрансформирования является мифология о полиморфных существах или бестиях [221]. Соитие человека и богов в образе животных порождает видоизмененных зверолюдей, объединяющих признаки человека и животного. Мы находим их описания и описание их деяний в мифологии разных народов. Восприятие этих существ человеком неравноценно. Некоторые из них носят черты мифических героев, другие представляются исчадиями ада. Древний человек либо преклоняется перед их чудесными способностями, либо воспринимает их как уродливых чудовищ. Через это восприятие мы можем проследить отношение древнего человека к антропотрансформированию как рациональному или иррациональному явлению.
Двадцатый век стал веком экспериментов с внешней формой человека. Изменение или коррекция внешнего облика хирургическими методами стала масштабным и рутинным явлением. Как часть индустрии красоты и как криминальный промысел она привела к обсуждению социальной проблематики области человеческой индивидуальности. Современное состояние этой проблемы заключается в фактической возможности создания нового индивидуума на основе существующей его формы. Меняется не только внешний облик человека, его телесные пропорции, но и визуальный возраст и в конечном итоге его психическое самовосприятие. Отчасти могут трансформироваться и психические свойства личности человека, который воспринимается окружением иначе, чем это было до изменения, что переопределяет его бытование. Кроме радикальных хирургических воздействий, появляется немалое число других изменяющих воздействий, позволяющих конструировать человеческое тело произвольным образом (фитнес [222]). Такое конструирование связано не только с традиционным атлетизмом, но и с измененной культурой питания и использованием биостимуляторов.
Это первое пороговое состояние антропотрансформирования, которое создает для окружения человека инаковость его восприятия другими людьми. Здесь критерием «свой – чужой» является степень узнаваемости персонажа. Если изменения столь радикальны, что мы не узнаем знакомого нам человека, то это фактор, разделяющий нас, требующий длительного привыкания либо порождающий отторжение. В любом случае возникает в самом первом приближении вопрос о естественности человека, и даже самая незначительная искусственность изменений порождает смутно осознаваемую его инаковость. Тем не менее не вызывает сомнения, что мы по-прежнему имеем дело с человеком своего биологического вида, то есть с биочеловеком.
Ситуация с изменчивостью меняется в корне, когда человек приобретает внешние признаки и телесные формы, вовсе ему не свойственные. Источниками таких изменений могут стать генные модификации и радикальная трансплантационная хирургия. Генной модификацией (или редактированием) приято называть воздействие на геном человека (включая генно-хирургическое изменение), которое способно привести к появлению у новорожденного индивидуума несвойственных этому виду внешних (или внутренних) трансформаций. В настоящем это чрезвычайно серьезная этическая проблема. Во-первых, априори согласие на такое изменение не может исходить от самого трансформируемого индивидуума (поскольку он еще не рожден). Нам известны ситуации, когда у потомков возникают внутренние претензии к своим родителям при наследовании некоторых аномальных генетических признаков при естественном зачатии и рождении. Насколько серьезными могут быть претензии, если такие признаки возникают при искусственных генетических трансформациях? Во-вторых, неизвестна будущность личности с измененным генотипом, определяющая течение ее жизни, т. е. принесет ли такое изменение ей благо или несчастья. В-третьих, генетический код индивидуума, несмотря на различия, рассматривается как его универсальный отличительный признак, поэтому отредактированный геном – это свидетельство видоизменения или принадлежности к иному искусственному генотипу. Из этого вытекает проблема неэквивалентности или неравенства естественного и модифицированного индивидуумов.
Такие же проблемы порождает трансплантационная хирургия, создающая измененный облик человека, отличный от традиционных представлений (например, женщину с дополнительной парой грудей). Это направление медицины сегодня становится традиционным и расширяющимся в связи с трансгендерными [223] преобразованиями индивидуумов. Хирургическое изменение пола с комплексным воздействием на физиологию человека способно создать существо с неопределенными половыми признаками. Другое направление связано с трансплантацией внутренних органов от одних людей другим. Пересадка порождает индивидуума с набором разновозрастных внутренних органов, что само по себе феноменально. Все эти преобразования происходят преимущественно на основе проявления воли индивидуума и его осознанного выбора. Это снимает часть этических проблем внутреннего плана, но не снимает противоречий между индивидуумом и обществом (или его частью). Сегодня значительная часть людей с традиционными консервативными убеждениями рассматривает такие трансформации как недопустимые для себя, а измененных индивидуумов считает неполноценными существами. Вместе с тем с научной точки зрения изменившие себя люди либо люди, измененные волею других людей, все еще остаются трансформированными людьми того же биологического вида, т. е. биолюдьми. Это второе пороговое состояние антропотрансформирования.
Если генно-хирургическое изменение приводит к изменению генома, при котором индивидуум наследует признаки иных видов животных (или даже растений), то такое изменение, очевидно, находится за порогом антропотрансформирования. Здесь возникает проблема отнесения измененного индивидуума к виду человека разумного и рассмотрения его в контексте концепции антропоцентризма. С одной стороны, он наследует человеческий геном, и с этой точки зрения он человек, но, с другой стороны, он наследует часть генома иного биологического вида, и с этой точки зрения он не человек. Если мы, условно говоря, получили свинью с человеческой головой, можем ли мы рассматривать ее как человека или как домашнее животное, предназначенное для получения продуктов питания (и не будет ли это являться каннибализмом). Чрезвычайно щепетильный вопрос! Опасения, которые возникают в этой сфере науки сегодня, возводят моральные и юридические запреты на любую практику таких экспериментов.
Тем не менее в XX веке начала свою историю ксенотрансплантация, то есть пересадка органов животных человеку. Сегодня это уже не экспериментальная наука. Вместе с тем такая практика тоже имеет морально-этические ограничения. До какой степени человек с пересаженными ему фрагментами животных остается человеком? Будет ли окружение воспринимать как человека индивидуума с характерными чертами собаки или крокодила? Наконец, будет ли личность самоидентифицировать себя как человека, сознавая свою смешанность с животным?
Вместе с тем не исключено, что такие трансформации будут успешными с точки зрения расширения функциональных возможностей человека, его приспособляемости к изменяющимся внешним условиям и т. д. В этом случае возникает этическая основа для оправдания телесных трансформаций как способа адаптации и даже выживания вида. Кроме того, если трансформируемый индивидуум приобретает некие способности и возможности, которые делают его более функциональным, не означает ли это, что он становится более совершенным, то есть развивается?

Рисунок 57. Антропотрансформированный человек-крокодил по представлению нейросети
Не можем ли мы в таком случае рассматривать результат трансформации как искусственное ускорение эволюции вида, которое неизбежно вызывает изменение внешней среды, но с большими издержками и даже с возможным исчезновением вида? Все эти вопросы пока не имеют однозначного ответа, основанного на современном социальном опыте. Мы лишь можем с уверенностью говорить, что этот социальный опыт обновляется и наши представления из недавнего прошлого об абсолютно недопустимом сегодня стали в некоторых обществах предметом коллективной заботы и особого внимания. Исходя из этих наблюдений мы можем допустить смещение пороговых состояний антропотрансформирования за традиционные представления об антропоцентризме, которые «размоют» существующие границы между антропоцентризмом и природоцентризмом. Последнее означает, что могут быть дополнены и наши представления о биочеловеке.
Вместе с тем наши рассуждения показывают, что становится уместным дискурс о телесной моде и рациональной трансформации тела. Иными словами, возникают две аргументации для внешних трансформаций: необходимость, вызванная внешними обстоятельствами, и следование своим желаниям проявлять уникальность или подражать чужой уникальности. В романе Клиффорда Саймака13 «Город» человека трансформируют в инопланетное существо – «скакунца» – для того, чтобы он мог жить без смерти в невероятно прекрасном, но абсолютно агрессивном для самого человека мире. Человек сознательно утрачивает в этом случае не только свою индивидуальность, но и свой традиционный образ жизни для обретения нового существования и прежде всего бессмертия. Это начало для исхода с Земли весьма большого количества ее жителей, воспринимаемого как необходимость. Фантастическое изображение возможностей трансформационной хирургии представлено в романах Дэвида Зинделла14, где хирурги-резчики преображают своих клиентов в особей другой цивилизации, в том числе и в целях увеличения продолжительности жизни. Однако такие изменения могут осуществляться и в эстетических целях. Фактически речь идет об искусстве ваяния нового облика разумного существа по его желанию. Фантастический дискурс всегда является прообразом реального общественного дискурса. Рано или поздно воображаемая реальность становится объектом научного поиска, а затем реальностью достижимой.
Очевидно, что в рассматриваемой нами дихотомии необходимость изменений превалирует над телесной модой с позиций общественных интересов и уступает ей с позиций личности. Поскольку данное состояние общества весьма естественно (то есть противоречия между обществом и личностью существовали всегда), то конфликт общественных и личных интересов может быть разрешен и в такой экзотической области, как антропотрансформирование.
Глобальные опросы показывают, что количество людей, категорично относящих себя к гетеросексуалам, составляет 80%, однако доля людей с противоположными взглядами растет от поколения к поколению в течение последних 50 лет. Среди лиц, родившихся после 1997 года, доля убежденных гетеросексуалов – 68%. Явление собственной половой дезориентации (неопределенности) получило также название метасексуальности. Проблема метасексуальности прочно связана с проблемой естественного воспроизводства человека. Помимо наблюдаемых социокультурных явлений асексуальности и отказа от семейных отношений, метасексуальность создает дополнительные предпосылки для дальнейшего сокращения традиционных семей и сокращения рождаемости. Сокращение рождаемости при одновременном старении населения продуцирует давление на экономику и выдвигает проблемы воспроизводства населения на уровень первостепенных проблем в странах золотого миллиарда, а также и в некоторых странах с высокой численностью населения (страны БРИКС и некоторые другие). Если наблюдаемые тенденции сохранятся при достигнутой продолжительности жизни, то многие национальные популяции могут значительно сократиться или даже ассимилироваться и исчезнуть. Более детально эти вопросы мы исследуем в следующей главе.
Государства проводят политику стимулирования рождаемости, однако это не дает заметных результатов. При этом наблюдаемый рост численности человечества в целом обусловлен темпами рождаемости, сложившимися в беднейших странах мира, но он сопровождается также высокой смертностью, в том числе и среди детей. Как мы покажем в дальнейшем, сокращение бедности в мире и увеличение продолжительности жизни неизбежно изменит эту ситуацию и приведет к снижению рождаемости. Более того, сокращение бедности и приобщение беднейших стран к странам с растущей суррогатной экономикой приведет их к росту тенденций метасексуальности, деградации традиционных семейных отношений, прочно связанных с поддержанием высокой рождаемости.
Многими экспертами выход из этой ситуации, по крайней мере в перспективе, видится в переходе к искусственным способам воспроизводства человека. Искусственное воспроизводство человека – прежде всего комплексная область медицинской науки. Свое начало оно берет в искусственном осеменении животных, которому несколько тысяч лет. С XVIII века эксперименты по искусственному осеменению вошли в научную практику. Первое экстракорпоральное оплодотворение, успешно завершившееся рождением ребенка, произошло в 1977 году. К 2014 году этим методом было рождено более 7 млн детей. При этом оплодотворение [224] осуществляется в пробирке (in vitro), а вынашивание плода происходит в половых органах матери, и роды протекают традиционными способами. В социальном плане экстракорпоральное оплодотворение становится явлением, деформирующим традиционное общественное устройство, так как оно не требует традиционных сексуальных отношений и создания традиционной семьи. Однако проблему искусственного воспроизводства человека она решает.
В перечне ставших традиционными способов воспроизводства человека появилось и так называемое суррогатное материнство, при котором эмбрион пересаживается не носительнице яйцеклетки, а другой женщине – суррогатной матери. Теоретически можно представить себе «предприятия по воспроизводству людей», которые объединяют банки биоматериалов (половых клеток мужчин и женщин) и институт суррогатных матерей. Однако не совсем понятна этическая сторона такого процесса и его результата – рождения детей без социальных связей. Очевидно, что такие способы воспроизводства возможны лишь при создании обобществленных систем воспитания, идентичных детским домам и приютам, от которых современное общество безуспешно пытается избавиться.
Еще одно направление науки развивает тему партеногенеза [225] – однополого размножения, при котором яйцеклетки развиваются в эмбрион без оплодотворения. Искусственное «индуцированное» получение особи мыши путем партеногенеза было осуществлено в Японии в 2004 году. Очевидно, что осуществление индуцированного партеногенеза человека имеет серьезные социальные последствия, так как оно не требует участия в оплодотворении мужских половых клеток, то есть половых отношений как таковых, и не требует образования для этого традиционных семей (собственно, оно не требует существования мужчин как таковых). Вместе с тем теоретически партеногенез решает в той или иной степени проблему искусственного воспроизводства человека.
Наконец, ведутся опыты по созданию искусственной матки и получению в ней жизнеспособного потомства животных и человека (США, Израиль). Пока эти эксперименты далеки от какого-либо даже предварительного результата. Сама по себе искусственная матка, если она будет создана, не исключает участия мужчин и женщин, в том числе социально связанных в традиционные семьи, в получении потомства. Она позволяет лишь исключить мучительный и иногда патологический процесс родов. В целом к этому направлению движение идет с двух сторон, поскольку перинатальные [226] технологии позволяют сохранить жизнеспособность все более ранних недоношенных плодов.
Самым спорным научным направлением в воспроизводстве человека стало его клонирование [227]. Под клонированием понимается неполовое размножение, при котором естественным путем получают несколько генетически идентичных организмов (копирование генотипа). Во многих государствах клонирование человека запрещено законодательно. Клонирование, как и партеногенез, не предполагает участия разнополых особей в воспроизводстве. Поэтому его социальные последствия идентичны, то есть не требуют традиционных половых и семейных отношений.
Очевидно, что возможны синтетические подходы к воспроизводству, радикально отдаляющие его от традиционных способов, например, соединение клонирования с вынашиванием искусственной маткой или суррогатной матерью.
Все перечисленные научные подходы к искусственному воспроизводству человека не связаны с сексуальными отношениями мужчин и женщин, а значит, удаляют общество в сторону от их традиционности, как и от сакральной ценности семьи. Секс как удовольствие при этом не утрачивает своего значения. При этом отдаление сексуальной жизни от ее функциональности порождает в обществе распространенность метасексуальности.
Независимо от того, каким способом воспроизводился человек, он, конечно, остается биочеловеком. Более того, расширение способов его искусственного воспроизводства может рассматриваться как отдаление его от неизменной парадигмы полового воспроизводства, предопределенного богом или природой. Это означает, что позиции антропоцентризма только укрепляются. Антропоцентризм как мировоззренческая общественная позиция способствует легализации новых способов искусственного воспроизводства человека, а затем выводит область сексуальных удовольствий из функциональной природы половых отношений.
Искусственное воспроизводство человека создает предпосылки для властного регулирования численности рождающихся людей. Это в общем случае не касается властного принуждения людей к воспроизводству традиционными способами, хотя властное стимулирование роста или снижения рождаемости может иметь место. Совсем иная ситуация возникает, когда воспроизводство человека становится возможным без участия родителей. Вне акта рождения фабрики по производству клонов или «партеногенезников» зависимы лишь от наличия яйцеклеток или искусственной матки (суррогатной матери). При этом воспроизводство может осуществляться внутри системы с использованием «материнского прайда». То есть первые поколения клонированных женщин могут стать суррогатными матерями для последующих поколений клонов. Согласитесь, звучит жутко и, наверное, бесчеловечно. Однако возможность такого варианта развития событий остается реальной, если в рамках концепции антропоцентризма не урегулирован статус человеческих клонов и суррогатного потомства. Иными словами, необходим окончательный и однозначный ответ на вопрос, является ли полноценным и полноправным человеком индивидуум, воспроизведенный полностью искусственным путем. Эта тема, как никакая другая, исследуется не только в литературной фантастике, но и во вполне научных изданиях и в религиозном дискурсе.
Если все-таки допустить возможность властного регулирования искусственного воспроизводства человека, то возникает целое направление в демографической науке, изучающее одноименное общественное явление, которое мы сочли уместным назвать регулятивной демодинамикой.
Демографическая наука изучает социальные закономерности естественного воспроизводства человека, включая процессы рождаемости. В том числе изучаются и динамические факторы рождаемости, обусловленные социальными и естественными причинами. В частности, выделяют два подхода (нормативный и эмпирический) к решению проблемы учета в анализе рождаемости вклада ее поведенческих и структурных компонентов. При этом оба этих подхода исследуют природу отклонений от установленного нормативно или эмпирически уровня естественной рождаемости, ее ограничивающих. То есть показатель естественной рождаемости всегда выше ее наблюдаемых реальных значений.
Очевидно, что искусственное воспроизводство человека означает наличие превышения уровня рождаемости естественных значений. Это можно рассмотреть на любом из вышеприведенных примеров. Так, суррогатное материнство уже сегодня дает возможность рождения детей женщинам (или семейным парам), которые не могли иметь потомства естественным образом. Появление искусственной матки в соединении с экстракорпоральным оплодотворением расширяет возможности получения потомства семейными парами, женщинами или мужчинами в еще больших масштабах. Здесь не важны структурные факторы, а поведенческим фактором становится осознанное желание получения своего потомства.
Наконец, клонирование создает предпосылки для воспроизводства новых людей на нормативно-регулируемой основе, в том числе в несемейной или даже общественной (государственной) системе их воспитания. Из области осознанного выбора личностей процесс воспроизводства переходит в управление общества, то есть становится обусловленным общественными целями. Это и означает его регулируемость и независимость от естественных факторов рождаемости: структурных и поведенческих.
Таким образом, предметом регулятивной демодинамики является изучение влияния различных способов искусственного воспроизводства человека на совокупный уровень рождаемости (воспроизводимости) людей, на его прогнозирование или планирование.
Доля процессов, относимых к регулятивной демодинамике в современной рождаемости, весьма мала, и она имеет скорее медицинскую коррекционную природу. Однако это не означает, что в будущем регулятивная демодинамика не станет главенствующим направлением демографической науки (и не только в части, касающейся рождаемости). В следующей главе мы детально рассмотрим вопросы демографической эволюции с учетом регулятивной демодинамики и демографическую революцию, порождаемую футураструктурологической перспективой. Здесь и сейчас мы лишь акцентируем внимание читателя на социальных последствиях искусственного воспроизводства биочеловека, в том числе и антропотрансформирующего воспроизводства.
В современном обществе, согласно опросам, 27% респондентов осудили татуировки. В России к суррогатному материнству отрицательно относится 19% опрошенных. О процентном отношении людей, нетерпимых к проявлениям метасексуальности, мы сообщили ранее. В Европе только 3% опрошенных допускают клонирование человека, тогда как 40% выступают категорически против. Высказанные мнения могут являться свидетельством нетерпимого отношения некоторой части современного общества к искусственным изменениям в традиционной организации общественной жизни вообще и к искусственному воспроизводству и антропотрансформированию в частности.
Тем не менее результаты опросов меняются, когда изменения мотивированы достижением новых свойств и способностей организма человека. Прежде всего это касается здоровья, долголетия и сдерживания старения организма. Значительная доля исследований сегодня посвящена способам лечения наследственных и старческих заболеваний. При этом возможная коррекция патологического развития с точки зрения респондентов допускает использование генной хирургии. Возможные побочные эффекты и связанные с ними сомнения отступают на второй план. Некоторое количество опрошенных полагает допустимым создание человеческих клонов для использования их органов при лечении «родительской особи», по крайней мере в той части, которая сегодня практикуется в отношении близкородственных индивидуумов.
В центре дискуссии всегда находится вопрос о равенстве людей, рожденных естественным путем, и людей, воспроизведенных искусственно. Возможное появление в обществе концепции такого неравенства находится в центре внимания современного мирового сообщества и науки. Действующая ценностная парадигма для таких состояний общества не сформулирована окончательно, прежде всего потому, что она находится в поле конкурирующих альтернативных мировоззрений. Очевидно, что критерием для определения такой парадигмы должна стать некая всеобщая аксиологическая система. И такой системой может быть система футураструктурологических ценностей.
Если антропотрансформирующие воздействия имеют рациональное начало, направленное на осуществление постулатов футураструктурологии (даже в некоторой их части), то такие воздействия являются допустимыми. При этом не должны нарушаться ни постулаты, ни следствия из них, сформулированные нами ранее. Антропотрансформирование организма человека, результатом которого является продление здоровой жизни человека и сохранение его физиологической и анатомической молодости, является рациональной реализацией первого постулата футураструктурологии. Если это достигается в процессе искусственного воспроизводства человека, то это также рационально. Однако если такие воздействия порождают отклонения, приводящие к нарушениям других постулатов, то они становятся недопустимыми. И в связи с этим возникает целая программа ограничений заданных свойств изменяемого индивидуума.



