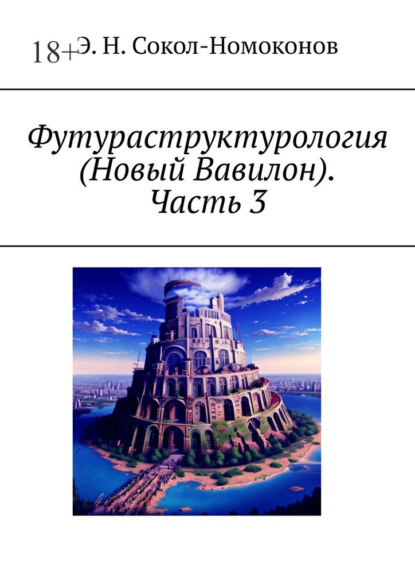
Полная версия:
Футураструктурология (Новый Вавилон). Часть 3
Например, в процессе изменений человек не должен утратить способности к получению удовольствий. То есть антропотрансформирование, приводящее к утрате ощущений или к их изменению, создающему противоположность удовольствия, либо усиливающее их до состояния наркотического привыкания, иррационально. Попробуйте самостоятельно составить программу ограничений для таких изменений с сохранением условий рациональности ценности стремления к удовольствию. Горизонт фантазий уведет нас в необозримую даль, которую вряд ли охватит вся современная фантастическая литература. Например, эксперименты с метасексуальностью явно будут иметь массу пороговых состояний, хотя мы понимаем, что любая метасексуальность связана с индивидуальными представлениями о сексуальных удовольствиях (а вовсе не о продлении рода). Заметим, что этический или эстетический подход ограничен традиционными исторически обусловленными представлениями и индивидуальным мировоззрением. Футураструктурологический подход имеет постулированную рациональную природу. Значит, метасексуальные изменения не должны нарушать постулаты футураструктурологии. И в первую очередь они не должны порождать в обществе ангармонические беспокойства. А беспокойства могут быть связаны с этическими или эстетическими представлениями некоторой части общества, для которой форма метасексуальности представляется неприемлемой.
Развивая эту тему, мы, вероятно, увидим и другие ограничения, которые порождают дилемму между индивидуальными представлениями о рациональных удовольствиях и общественными представлениями об их иррациональности. Как мы отмечали ранее, разрешается это противоречие изоляционистским расселением, при котором индивидуумы с близкими представлениями о пределах антропотрансформирования и способах получения удовольствия собираются в обособленных населенных местах. Тем не менее они не избавлены от общественного контроля над соблюдением постулатов футураструктурологии. Решает ли такой подход окончательно проблему людей «второго сорта» или создает паллиативы? Вероятно, у нас, как и у читателя, нет однозначного ответа на этот вопрос. Очевидно лишь одно – биочеловек остается таковым при любых трансформациях, не использующих элементы небиологической природы (технических элементов). Поэтому биочеловеку независимо от степени антропотрансформирования проще оставаться в поле антропоцентристских представлений. Человек, соединяющий себя с другими видами животных (растений), вероятно, утрачивает часть антропоцентричности и тяготеет к природоцентричному миру. На вопрос, остается ли такой индивидуум человеком (вообще, а не первого или второго сорта) и возможно ли его существование в границах футураструктурологических представлений, мы не можем дать однозначного ответа. Поэтому с точки зрения футураструктурологии такое изменение иррационально. Столь глубокие изменения образуют абсолютные границы антропотрансформирования.
Наконец, до сих пор мы обсуждали неравенство, порождаемое антропотрансформированием, как общественную позицию, исходящую от естественных людей. Но может оказаться, что некое локально расселенное антропотрансформированное сообщество заявит свои права на первенство в человеческом обществе. Более того, такая позиция может быть мотивирована приобретенными качествами, делающими этих людей более сильными, более интеллектуальными, но, например, бесчувственными и безжалостными суперлюдьми. Как разрешать этот апробированный литературной фантастикой социальный конфликт? В этом варианте событий, как и в предыдущем, представление об антропоцентризме расслаивается на два или более, когда отдельные измененные сообщества определяют свой антропоцентризм (по существу, антропоцентризмов становится несколько). Возможно при этом расслоение в системах ценностей, а значит, и фундаментальные противоречия между естественными и измененными сообществами.
Французский писатель Эрнест Ле Эпине15, выступавший под псевдонимом Катрель, оставил наряду с другими сатирами и небольшой роман о человеке-воине, который в процессе хирургического вмешательства при исцелении от ранений постепенно превращается в механическую конструкцию – груду протезов («Капитан Кастаньетт»). Эта тема, успешно развиваемая авторами начала XIX века, приобрела невероятный размах и в следующем столетии привела к рождению нового фантастического направления о киборге – человеке, соединенном с различными механическими, а затем и электронными устройствами, которые изменили его и как индивидуума и как личность. Как и во многих других, так и в этом случае литературная фантазия послужила основанием для технических открытий в области имплантационной хирургии. Вживление технических элементов в тело и органы человека стало настолько распространенным, что можно говорить о наступлении эпохи техночеловека. Современная наука всерьез предлагает создание электронных имплантатов [228], осуществляющих функции, у которых нет природных аналогов. Например, исследуются возможности преобразования электрических сигналов, получаемых из внешней среды в сигнальную систему головного мозга человека, т. е. способы создания электронных аналогов человеческих органов чувств, в том числе как протезов взамен утраченных органов. В этом смысле интересен опыт коммуникации с внешним миром Стивена Хоккинга16 как опыт обратного преобразования нервных импульсов в речь. Все эти устройства получили обобщенное название нейроинтерфейсов [229].
Описанные нами антропотрансформированные люди образуют нижний уровень типологии техночеловека. Несомненно, у этого направления большие перспективы с развитием микрочипизации и дополненной реальности. В ближайшем будущем это приведет к революции в массовой коммуникации, которая будет дополнена расширением чувственных диапазонов восприятия мира человеком. Нельзя не заметить, что подобные изменения критически значимо трансформируют личность человека (особенно это проявляется из опыта общения с «запертыми в теле» людьми, превращающимися из «овощей» в художников, поэтов и писателей). Подобные изменения меняют и социальную структуру общества, в которой прямые речевые коммуникации все более замещаются образными. Это, несомненно, путь к третьему уровню типов технолюдей, способных выстраивать сетевые (или сотовые) общественные инфраструктуры. Такие инфраструктуры сегодня представлены социальными сетями – онлайн-платформами для создания социальных отношений между людьми. В перспективе уровень интеграции людей в таких инфраструктурах может трансформироваться в закрытые сообщества с определенными общими идеями и целями, что очень напоминает сообщество боргов Юджина Родденберри17. Техносоциальное единство – тот порог, который заставляется задуматься об антропоцентричности. Мы можем в этом случае обсуждать, остаются ли такие люди последователями идей антропоцентризма или они соподчинены технологии сетевого сосуществования.
Второй (промежуточный) уровень типологии, вероятно, связан с соединением индивидуума с наномашинами на клеточном уровне. Это пока еще недоступный современной науке феномен, хотя само создание наноустройств весьма реально. Наномашины всерьез рассматриваются как перспективное направление в альтернативной иммунологии, способное навсегда избавить человека от вредных микроорганизмов и болезней, проявляющихся на клеточном уровне (например, в онкологии). Наномашины как управляемые генные модификаторы могут воздействовать на геном человека, а значит, стать фактором антропотрансформирования на клеточном уровне. Можно только фантазировать в отношении влияния наномашин на активность и функциональность нейронов головного мозга. Однако полностью исключать такие фантазии тоже не следует. В любом случае второй уровень типологии техночеловека также ставит вопрос об антропоцентризме, поскольку человек, соединенный с роем наномашин, может проявлять не свойственные неизмененному человеку способности в управлении телом и сознанием, а значит, иметь и иное измененное мировоззрение.

Рисунок 58. Так мог бы выглядеть техночеловек, сконструированный для жизни на Марсе
Во всех уровнях обнаруживается порог, при котором изменения внешнего порядка, трансформирующие индивидуума extra corpus или intra corpus, становятся причиной изменения его личности (в том числе и в составе солидарных социумов). Этот порог и определяет отношение техночеловека к проблеме антропоцентризма, а значит, и его отношение к нетрансформированным людям и к антропотрансформированному биочеловеку.
Техночеловек, несомненно, перспективен в контексте освоения им космического пространства и планет с отсутствием биологической жизни. Биочеловек, даже подвергнувшийся изменениям, формируется как биологический вид в земных природных условиях. Основными критериями его существования являются наличие и состав воздуха, наличие воды, климатические изменения в определенном диапазоне температуры и давления воздуха, постоянная сила тяжести, отсутствие жестких космических излучений и наличие стационарного магнитного поля. Любое значительное изменение этих природных констант неизбежно влечет за собой гибель человека и всего живого на планете. Очевидно, что идентичные условия не могут быть созданы в открытом космосе и на любой из достижимых нами планет. Это означает, что биочеловек не сможет посещать такие планеты и обитать на них без создания искусственной среды обитания. Однако при глубоких трансформациях техночеловек становится более жизнеспособным и его возможности и адаптивные способности усиливаются.
Уязвимым местом в природе техночеловека становятся вопросы надежности машин. Все современные машины, приборы и устройства имеют конечный цикл функционирования даже при наличии гарантийного ремонта. Они также устаревают морально с устареванием технологий. Использование искусственных органов предусматривает конечный срок их эксплуатации и необходимость замены. Это означает, что технокомпоненты техночеловека не гарантируют его жизнеспособность и долгоживучесть. Техночеловек прочно связан с ремонтной базой, и в этом плане он становится подобен андроиду (человекоподобной машине). Конечно, можно сравнить такую зависимость с зависимостью биочеловека от медицины, но не следует забывать, что техночеловек становится зависимым вдвойне.
Накопление различий между изменяемыми биочеловеком и техночеловеком все более удаляет их не только от первичного неизмененного состояния, но и друг от друга. Это связано не только с выбором приоритета основной парадигмы, но и с различиями в отношении к футураструктурологическим ценностям и способам их достижения. Вероятно, что техночеловек может утратить некоторые рациональные психофизиологические ценности – стремление к удовольствию и стремление к покою, – обретя технические суррогаты, стимулирующие определенный некритический уровень постоянной телесной удовлетворенности и регулируемого быстрого электронного сна или блокираторы эмоционального возбуждения. Это, несомненно, скажется на его общественном поведении, вероятно, резко ограничит круг и многообразие форм общения, свойственных биочеловеку. Такая рационализация делает его более похожим на разумную машину и, соответственно, более функциональным существом, круг ценностей которого ограничен этой функцией.
У изменяемого биочеловека, наоборот, возникают риски гипертрофированного отношения к проявлению животных поведенческих реакций, расширению эмоциональной сферы, особенно в получении удовольствий.
Можно возразить, что прогнозируемая ситуация окажется противоположной. Что биочеловек может заняться ограничением своей чувственной сферы, а техночеловек, наоборот, ее расширением. И это тоже возможно.
Наконец, мы не должны полностью исключать и такого пути антропотрансформирования, который способен соединить изменяемого биочеловека и техночеловека.
Принципиально важным для нас является то, что движение в сторону тех или иных изменений искажает привычную нам картину психофизиологических ценностей естественного биочеловека. Конкуренция различных направлений антропотрансформирования и их синтез в конечном итоге создают общественные проблемы после выхода измененных людей за границы антропоцентризма и отрицания ими системы основных человеческих ценностей (или некоторой их части) в футураструктурологической парадигме.
Как бы ни был интересен вопрос об антропотрансформировании, не менее интересен противоположный процесс целенаправленного уподобления искусственных или естественных существ или устройств человеку, которое мы назовем антропоморфированием. Антропоморфирование, очевидно, идет по двум направлениям. Это достижение внешнего подобия существа или устройства человеку либо создание искусственного человекоподобного разума. Как и в ранее описанных ситуациях, первое касается свойств индивидуума, второе – свойств личности.
Химеризм, который уже нами упоминался, в том числе связан с уподоблением животных человеку. Предположение о том, что высшие животные могут быть скрещены с человеком, долгое время ограниченное научным тезисом о невозможности межвидовых скрещиваний для удаленных друг от друга видов, постоянно пытались опровергнуть. Природа давала нам примеры скрещивания некоторых видов непарнокопытных, кошачьих или псовых, не говоря уже о множестве таких естественных процессов у организмов, стоящих гораздо ниже на эволюционной лестнице. В XXI веке появилась возможность говорить об искусственном осеменении одних видов половыми клетками других. Уже упомянутая нами генная хирургия сделала более возможным редактирование генов одних животных с использованием генов других. Прагматическое начало в этом экспериментальном направлении связывалось с возможностью получения искусственных органов человека, выращенных в теле животных с использованием человеческого генетического материала (прежде всего, упоминались стволовые клетки человека). Реальные искусственные химеры козы и овцы продемонстрировали, что это направление имеет научную перспективу.
В меньшей степени химеризм представлялся осуществимым путем проведения хирургических операций над животными (т. е. вивисекции). В художественной литературе такие химеры возникали у Герберта Уэллса18 («Остров доктора Моро») и у Михаила Булгакова («Собачье сердце»). Справедливости ради заметим, что эти источники не предполагали какой-либо научности сюжета, а рассматривались их авторам как средство сатирического отображения этических проблем современного им общества. В новой фантастической литературе химерические сюжеты приобрели невероятный масштаб. Более того, во множестве вариантов исследовались и социальные последствия таких преобразований животных.
Генетическим и хирургическим преображением химеризм не исчерпывается. Как мы уже отмечали, широко исследуется тема искусственного развития интеллекта высших животных, способная привести к их социальной самоорганизации как внутри человеческого социума, так и в варианте его замещения. Фактором ускоренного развития гипотетически являются случайные мутации (например, как последствия ядерного облучения) и целенаправленные физические воздействия на животную органику. Ускоренная эволюция домашних животных – популярнейшая тема со времен Джонатана Свифта. При этом вопрос о том, можно ли считать интеллектуальное животное равным человеку разумным существом, ни у кого не вызывал сомнений.
Другим направлением антропоморфирования достаточно давно считается создание искусственных человекоподобных тел. Множество сюжетов написано по поводу оживающих скульптурных изображений человека (от античного мифа о Пигмалионе до задушившей в своих объятиях неосторожного мужчину скульптуры Венеры в новелле Проспера Мериме19). У Николая Гоголя20 и Оскара Уайльда21 антропоморфизмы были связаны с портретными изображениями. С развитием механики стала интересной тема создания антропоморфных механических игрушек, последовательно выросшая в тему роботов, которых придумал Карел Чапек и сделал легендарными Айзек Азимов. Справедливости ради следует упомянуть историю Голема как средневековую легенду и как результат творческого осмысления темы Густавом Майринком22.
Современное понимание темы – это полная уверенность в реализуемости антропоморфных электронно-механических устройств, для которых придумано название андроид. В широком понимании андроид представляется нам как робот-гуманоид или синтетический организм, предназначенный для того, чтобы выглядеть или действовать наподобие человека. В общем случае (с современной точки зрения) андроид не рассчитан на то, что он будет наделен реальным интеллектом и тем более будет обладать чувственной сферой (то есть проявлять сознание, подобное человеческому). Наоборот, он действует как довольно совершенная имитация. Современникам, избалованным интернет-ботами, программируемыми экзоскелетами и совершенной полимерной пластикой лица и тела, совершенно нетрудно представить себе такую домашнюю игрушку (в том числе для девиантного секса) или удачное дополнение к торговому автомату. Однако ситуация становится диаметрально противоположной, если в процесс антропоморфирования включается искусственный интеллект – ИИ.
Конечно, проблема искусственного интеллекта – это отдельно стоящее событие, которое непосредственно не связано с антропоморфизмом. Искусственный интеллект представляется как свойство сложных компьютерных систем выполнять творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой человека. Каждая из специализированных систем реализует те или иные конкретные функции. Сегодня нейросети довольно успешно экспериментируют в таких областях творчества, как медицинская диагностика, сочинение музыки, писательство, создание художественных изображений и т. д. Отдельное место ИИ занимает в игровых процессах, включая планирование военных операций. Общение с ИИ-системами вызывает у многих разработчиков иллюзию общения с образованными дилетантами или малолетними детьми. Ограничения в использовании ИИ связаны со все еще имеющим место несовершенством компьютерных систем и сетей (конечно, в сравнении с человеческим головным мозгом), но в перспективе эти ограничения могут быть сняты.
Очевидно, что никто не ассоциирует сегодня ИИ с искусственным сознанием, поскольку в процессе выполнения действий не проявляется свойства осознания себя системой как разумного «я» (хотя опыт с получением подобных ответов от систем ИИ имеется). Самосознание ИИ – это фундаментальный вопрос, относящийся не столько к самой природе ИИ, сколько к природе человеческого сознания и самосознания. Известно, что самосознание возникает у человека приблизительно в возрасте одного года и формируется в процессе развития приблизительно до трехлетнего возраста. Не означает ли это, что ИИ должен обладать для достижения самосознания внутренним потенциалом развития? То есть заложенные в ИИ программы должны быть внутренне замкнуты на процессы самосовершенствования на основе опыта обработки больших массивов информации (вместо ощущений и восприятия, которые для развития использует человек). Такие и аналогичные подходы используются сегодня для исследования нейросетей, в том числе с имитацией машинной эволюции.
Человеческое самосознание ассоциировано с восприятием собственного тела, в том числе созерцаемого извне (зеркально). Я – это в первую очередь человек со своей индивидуальностью и местом в обществе, а затем уже скрытое внутреннее «я», которое на самом деле окутано непроницаемой тайной бытия. Самосознание ИИ в таком случае ассоциируется с локальной или распределенной информационной системой, где в роли индивидуума выступает «железо», а в роли личности – самосовершенствующаяся программа и базы данных, которыми она оперирует. Воспринимая себя в таком виде, ИИ никоим образом не может ассоциировать себя с человеком разумным и вообще ассоциировать себя с формой жизни.
Достижение реального опыта самосознания у ИИ в относительно небольшом локальном машинном объеме – первый шаг к созданию реального андроида, т. е. кибернетической аналогии человека (хотя и лишенного чувственной сферы и даже ее имитации). Имитировать эмпатию к человеку возможно через систему программных ограничений и запретов, подобных трем законам роботехники А. Азимова. У кибернетического андроида гораздо больше оснований осознавать себя машинной аналогией существа, ведь внешне он может быть очень похож на человека.
Представить себе, как ИИ формирует зачатки самосознания, нам помогает литературная фантастика. Сравнивая себя с человеком, андроид, инкорпорированный в человеческое сообщество (например, в семью), вынужденно становится социально связанным с этим сообществом, как это происходит с домашними животными. Путь социализации машинного поведения – это вероятный пример ускоренной машинной эволюции андроида. Однако всегда есть то, что фундаментально разделяет андроида и человека. И это вовсе не различия во внутренней природе, а различия в ценностной парадигме. Андроиду чужды практически все человеческие ценности, кроме обусловленной его программой возможности творчества. Андроид может оказаться гораздо более долговечным, он не нуждается в удовольствиях и покое. Это обстоятельство отчуждает его от человека. При этом правомерен вопрос о том, возможны ли другие ценностные установки в техномире андроидов. Вероятно, такими установками являются программные ограничения, содержащие запреты и стимулы «жизнедеятельности» андроида, которые не могут быть изменены в процессе машинной эволюции. Но, вероятно, могут возникать и другие локальные установки, не противоречащие ограничениям, но обособляющие и индивидуализирующие поведение андроида.
Очевидно, что андроид в силу программных ограничений и имитируемой эмпатии может «разделять» идею антропоцентризма, фактически рассматривая человека как собственного демиурга (это распространенный литературный сюжет). Однако при этом всегда остается открытым вопрос о возможности появления у андроидов идей техноцентризма, а значит, и обобществления в техносоциуме локальных ценностных установок андроидов. Именно это обстоятельство является основанием для современного дискурса о его допустимости и его возможных последствиях.
Техноцентризм абсолютно противопоставлен антропоцентризму, так же как антропоцентризм противопоставлен теоцентризму и космоцентризму. Он так же может существовать наряду с другими воззрениями, но рано или поздно он формирует новый путь техносоциализации – без человека. Будет ли это восстание машин, сектантский сепаратизм или глобальный исход в другой мир – не принципиально. В любом случае исходом становится расхождение сообществ людей и андроидов. Значит, потенциальная неспособность к сосуществованию заложена в парадигмальных ценностных различиях человека и андроида, а значит, и в самой идее технического антропоморфизма. Кстати, именно эта мысль и является центральной в пьесе «R.U.R.» Карела Чапека.
Возможно ли обратное движение и генерация идей антропотехноцентризма? Вероятно, да – в случае формирования сообществ андроидов и технолюдей. Предельным состоянием техночеловека является то, что биологической в нем остается центральная нервная система с головным мозгом (некое развитие гипотезы Александра Беляева23 «Голова профессора Доуэля»). Если все остальное является механизмом, то, как мы отмечали выше, это неизбежно приводит к деформации человеческих ценностей. То есть ценностные парадигмы техночеловека и андроида сближаются. Мы помним, как был несчастен профессор Доуэль. Вероятно, так же несчастен будет и гибрид человека и машины (конечно, если у него не будет предшествующего человеческого опыта и он будет личностью, «родившейся и воспитанной» в машинном теле – андроидным Маугли). Осознание себя машиной и человеком одновременно – это путь к осознанию собственной ущербности (и как человека, и как машины). Как машина, гибрид органичен физической смертью мозга, как человек – он лишен человеческих ценностей. Еще одним предельным состоянием является техническая возможность перезаписи человеческой личности на ИИ андроида. В этом случае в телесном плане мы имеем дело с андроидом, но с деформированной человеческой личностью, которая заперта в этом теле. В этом случае бывший человек тоже самоограничен. Как бы то ни было, предельный техночеловек должен утратить основную часть человеческих ценностей и примкнуть к техноцентризму, то есть к утрате общности с миром биочеловека, либо выстроить систему имитации некоторых человеческих ценностей внутри технотела, чтобы восстановить эту общность. Тогда парадигмой антропотехноцентризма становится имитационное квазичеловеческое поведение машины с набором технических симуляторов и ограничителей (симулятор того или и иного человеческого удовольствия).
Читатель правомерно может задаться вопросом, для чего мы проводим исследование практически невероятных для сегодняшнего состояния науки и технологий гипотез. Ответ на этот вопрос непосредственно следует из предыдущих рассуждений. Исследование необходимо нам для понимания того, насколько далеко уходит то или иное измененное существо от следования антропоцентризму. Нам необходимо понять, остается ли в личностном плане это измененное существо биочеловеком, техночеловеком или андроидом и не находится ли оно в связи с этим в состоянии внутреннего конфликта или во внешнем конфликте с остальным сообществом.



