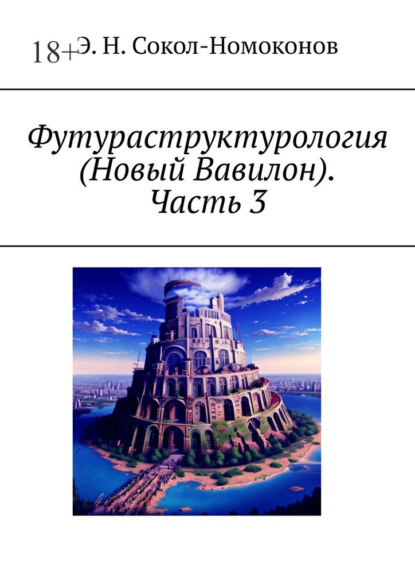
Полная версия:
Футураструктурология (Новый Вавилон). Часть 3
Приспосабливаться к новой многомерной религиозной и моральной реальности придется не только консерваторам, но и общественным институтам. Вероятно, наибольшие сложности ожидают институты религиозные. Некоторые моральные девиации могут рассматриваться ими как недопустимые и подпадающие под область религиозных запретов. В этом случае религиозные сообщества людей с измененной моралью будут, вероятно, создавать обособленные религиозные институты (как это, впрочем, было и в прошлом и происходит в настоящем).
Такие процессы вызовут существенное расслоение структуры общества, его пространственную дифференциацию, обособление типических бытований и будет способствовать появлению огромного числа новых культурных феноменов, часть из которых будет ограничена в обращении, чтобы не ущемлять прав и интересов других людей. Такие явления мы можем наблюдать отчасти и в современности, но они не имеют массового распространения.
С эстетическим самоопределением дело обстоит проще, поскольку на уровне современной толерантности мы допускаем эстетическое многообразие. Однако это многообразие может усилиться кратно и выйти за пределы эстетического восприятия, когда нахождение рядом с эстетически телесно деформированным человеком вызывает непреодолимый дискомфорт, а то и ксенофобию. Вероятно, это также потребует пространственного обособления в новой системе расселения.
Рассмотренные нами проявления личностных и групповых телесных удовольствий создают человеку такую систему рациональных самопроявлений в получении удовольствий, которую он не имел никогда ранее, ни в каких социальных системах. Эта система антропоцентрична в отношении каждого индивидуума, ибо она не ограничена извне ничем, кроме постулатов футураструктурологии, защищающих интересы людей с другими воззрениями, что также является проявлением антропоцентризма.

Рисунок 56. Гармоничное представление нейросети о философском противостоянии человека, бога и космоса (мы все на одной линии бытия)
Общественные гарантии безопасности человека и гарантии достижения состояния покоя, адресованные каждому человеку в равной мере, безотносительно к характеру внешних угроз, – абсолютно антропоцентричны. В конструкциях, основанных на примате божественной воли, внешние угрозы – лишь ее проявления (возможно, даже божественная кара). Идея божественного успокоения страждущих во многих религиях означает, что истинный покой достигается человеком только при обращении к богу, то есть зависим от божественного благорасположения. Природоцентричный подход, вероятно, допускает полную зависимость человека от случайных и закономерных природных процессов, которые способны угрожать и покою, и самой жизни каждого из нас. В этом смысле состояние покоя и сама жизнь и здоровье человека есть производные роковых внешних воздействий, преодоление которых представляется бессмысленным. Примат человеческой воли в обретении покоя либо беспокойства, как и воли в обеспечении безопасности (собственной и других людей) – яркая черта антропоцентристского толкования общественного поведения в футураструктурологической перспективе.
Достижение общественного порядка через сокращение ангармонических общественных беспокойств, конечно, выступает общественным ограничением самопроявлений каждого человека. С позиций либерального гуманизма это можно трактовать как отступление от антропоцентризма в вопросах духовного самовыражения человека. Это также может рассматриваться как вторжение общества в чувственно-эмоциональную природу человека. И это достаточно справедливые упреки, которые можно адресовать данному следствию из третьего постулата. Однако при этом не следует забывать о безусловном праве на покой и безопасность для других людей, страдающих от таких форм самовыражения. Это приводит нас к мысли о том, что при обращении к ангармоническим общественным беспокойствам мы должны трактовать антропоцентризм как реализованную позицию большинства общества, даже в ущерб действиям обеспокоенного меньшинства. Причем это происходит без исследования причин, порождающих ангармоничное поведение, без установления определений о мотивации и движущих силах таких процессов. Здесь мы окончательно приходим к пониманию того, что любые общественные противоречия, любые социальные несправедливости должны разрешаться обществом в соответствии с постулированными ценностями при безусловном пресечении ангармонических общественных беспокойств. Система управления и общество защищают покой человека всеми средствами, которые не противоречат первому постулату.
Антропоцентризм исключает такие крайние формы ангармонических беспокойств, как массовые беспорядки, поскольку таковые могут угрожать безопасности и самой жизни людей. Здесь мы возвращаемся к представлениям о необходимости поддержания общественного порядка и предотвращения хаоса. Хаос становится общественным проявлением, направленным против идеи антропоцентризма. Порядок, наоборот, утверждает антропоцентристские идеи в обществе.
Достижение глобальной безопасности невозможно без следования антропоцентризму. Поскольку глобальная безопасность исключает возможность возникновения таких общественных явлений, как война и террор, то последние также признаются направленными против идеи футураструктурологического антропоцентризма. Единственно возможное состояние общества, гарантирующее футураструктурологический антропоцентризм, – это состояние всеобщего и безусловного мира и отказа от насилия.
Антропоцентричное общество нуждается в полной консолидации вокруг идей антропоцентризма. Внутри него не должно быть сообществ, отвергающих эти идеи. Это, очевидно, возможно только в результате утверждения надгосударственного мирового устройства, исключающего межгосударственные и межнациональные противоречия на основе обеспечения национальной безопасности. Все относительно устойчивые многонациональные государственные образования прошлого и настоящего указывают на истинность такого утверждения. Собственно, надгосударственное устройство является проекцией идеи антропоцентризма на организационно-политическую структуру общества. Одна главная идея и единый инструмент ее продвижения. В этом смысле футураструктурологический антропоцентризм исключает национальный ценностный аспект, а потому он космополитичен.
Футураструктурологический антропоцентризм, обращенный к человеку вообще, не может существовать без достижения равенства индивидуумов. В чем будет заключаться такое равенство вне поля неолиберальных или неомарксистских идей? Конечно, «новое равенство» проявляется в общедоступности медицины и продления жизни, в обеспечении гармонической обеспокоенности и безопасности индивидуумов и относительной равнораспределенности удовольствий. Однако подлинное равенство индивидуумов возникает из общественных гарантий равных возможностей в творческом развитии личности. Следствия из четвертого постулата определяют, что основу общественных гарантий творческого развития создает общедоступное образование и общедоступное приобщение к «рациональным» культурным феноменам. Равный доступ к общественным творческим ресурсам создается путем широкого распространения глобальных информационно-образовательных систем.
Глобальная система творческих достижений человечества формируется в виде информационного ресурса, в котором каждый индивидуум может предложить результат собственного творчества и осуществить заказ на интересующий его результат творчества другого человека. Результаты творчества могут свободно обмениваться между людьми. Каждый вправе предложить результаты собственного творчества неограниченному кругу лиц безвозмездно. Данный информационный ресурс не может содержать сведений о результатах творчества, которые нарушают первый-третий постулаты футураструктурологии. Все это и является инструментами достижения равенства в заведомо несоизмеримых результатах творчества, поскольку статистическое многообразие участников процесса, дифференцированных по уровню талантов, создает разноуровневые сообщества производителей и потребителей творческой продукции. При этом мы категорически исключаем обращение квазисуррогатов в этой системе творческих обменов. Обратим внимание на то, что в этом смысле проблема современного антропоцентризма проявляется особенно остро в связи со вторжением даже примитивного искусственного интеллекта в сферу производства культурных квазисуррогатов. Эта проблема требует пристального рассмотрения в краткосрочной перспективе.
Традиционные общественные ценности не порицаются обществом, если они рациональны. Вместе с тем их роль в утверждении идей футураструктурологического антропоцентризма должна быть подчинена действию постулатов и следствий из них. Таким образом, каждая рациональная общественная ценность, сохраняемая обществом в некоторой перспективе, действует в части, не противоречащей постулатам. Общая тенденция, как мы отмечали выше, направлена на последовательный переход от декларативных рациональных общественных ценностей к представлениям о человеколюбии как универсальной максиме. Иррациональные и ложные духовные ценности искореняются из общественных отношений как противоречащие первому-третьему постулатам футураструктурологии.
Общество в своем политическом, экономическом и правовом творчестве следует в направлении, исключающем ложные ценности – стремление к достижению власти и стремление к обретению богатства. Рационализация политической и экономической жизни общества и рационализация права на основе постулируемых нормативных знаний неизбежна. Совершенствуя систему общественных отношений через универсализацию общественных ценностей, исключая из жизни все иррациональные ценностные представления и приходя к универсальной максиме человеколюбия как форме существования индивидуума и общества, мы достигаем подлинного состояния футураструктурологического антропоцентризма. В нем как в обобщенной философской идее будущего общественные максимы и система ценностей соединяются в обобщенные и целостные детерминирующие факторы общечеловеческой системы. Эквивалентны ли они современным многообразным ценностным общественным системам? Конечно нет, ибо они являются рационализированным комплексным обобщением всех этих систем. Именно в этом проявляется внешняя всеобщность футураструктурологического антропоцентризма, его приемлемость для всех без исключения индивидуумов. Только в такой единой мировоззренческой парадигме проблема традиций и культурных различий может быть решена простым пространственным обособлением индивидуумов в новой системе расселения.
Итак, чего же мы достигли за тысячелетние трансформации наших представлений об антропоцентризме? Абсолютное большинство современных людей осознает себя как основную «ценность для себя» через осознание ценности собственной жизни. Самоценность выражается во внешних проявлениях и внутреннем самовосприятии. Внешними проявлениями являются разноуровневые самооценки общественного статуса (от самоуважения до самовозвеличивания) и принятые на себя социальные роли. Внутренним самовосприятием создаются убеждения о собственной исключительности, индивидуальности, личностной уникальности, как физической, так и духовной. При этом очевидно, что некоторая часть асоциалов осознает свою «ничтожность» и несостоятельность.
Некоторая часть современных людей осознает себя как некоторую «ценность для общества». Это может быть связано с реальными творческими достижениями, но и с переоценкой своей роли в общественной жизни.
Таким образом, абсолютно большая часть людей рассматривает себя как самоценное и ценное для общества сущее. При этом трудно определить, каковы тенденции такого самоопределения в прошлом и будущем. Рискнем также предположить, что ценностное самоопределение обусловлено различными внутренними и внешними факторами: расой, национальной культурой, образом и качеством жизни, уровнем образования, историческими ситуациями и т. д., что оказывает влияние на результаты исследования тенденций самоопределения. Тем не менее мы можем соотнести состояние самоопределения с уровнем личного благосостояния и предположить, что его рост в последние 60 лет предопределил тенденцию к ценностному самоопределению у благополучной части человечества (измеряемой, например, уровнем доходов домохозяйств). Это вовсе не означает, что остальная часть человечества, уровень благосостояния которой существенно ниже, вовсе не имеет ценностного самоопределения. Просто оно основано на других представлениях о благосостоянии и на другой системе потребностей.
Итогом наших рассуждений может быть гипотеза о том, что измеряемое ценностное самоопределение может служить одним из критериев уровня распространенности идей социального антропоцентризма в современном обществе.
Ценностное самоопределение довольно часто конфликтует с общественными оценками человеческой ценности. При этом речь идет не о ценности абстрактной человеческой жизни, которую мы столь подробно обсуждали в первой части. Речь идет об общественной ценности конкретного индивидуума либо определенных социальных групп. При этом понятие общественной ценности не универсально и претерпевает постоянные трансформации. Это приводит к тому, что сложно уловить тенденции в изменении общественной ценности личности при ретроспективном исследовании. Поэтому такие исследования следует проводить на основе некоторых неидеологизированных и универсальных определений. Попробуем сформулировать одно из таких определений общественной ценности с позиций антропоцентризма.
Предположим, что это формулируется следующим образом: «Индивидуум ценен для общества по тому творческому наследию, которое он создает». При этом творческое наследие может быть выражено в измеряемом вкладе в общественное достояние (включая все, от объектов культурного наследия до субъективной общественной памяти о добрых деяниях). Общественная оценка творческого наследия может быть только посмертной, поскольку индивидуум способен изменить характер своей деятельности за время жизни.
Конечно, могут быть и другие определения общественной ценности (в зависимости от состояния идей гуманизма в том или ином обществе в те или иные исторические периоды). Каждое из этих определений будет содержать в себе ценностный критерий, который мы можем в той или иной степени измерить, а следовательно, сделать вывод о том, насколько общество считает ценным каждого человека. Суммативные параметры общественной ценности человека дают нам представление о распространенности идей антропоцентризма в данном обществе.
В различных ситуациях возможны количественные разрывы между ценностным самоопределением и суммативными параметрами общественной ценности человека, которые и являются объективными показателями степени гуманистичности общества. При этом очевидно, что негуманные общественные образования не разделяют идей антропоцентризма, заменяя их другими конструкциями.
Почему в конечном итоге нам так необходимы рассуждения о футураструктурологическом антропоцентризме? Прежде всего потому, что они позволяют решить на новом уровне проблему ценности человеческой личности как основу его самоидентификации (не путать с приведенным выше представлением о ценностном самоопределении) человека.
Сама проблема формулируется на основе ретроспективного опыта человечества, которое не имеет по ней окончательного универсального решения. Эволюция представления о личности в философском плане не отождествляет его с представлением об индивидууме как человеческой особи. Личность связывают с сознательной деятельностью индивидуума как субъекта социокультурной жизни общества. Личность атрибутивна и состоит из совокупности воли, разума и чувств. Признавая абсолютную уникальность личности, современное общество тем не менее не наделяет ее формальным статусом уникального общественного явления, требующего особого общественного отношения. Прежде всего статусом личности, защищаемой от внешних разрушающих воздействий. Если уникальные объекты материальной и духовной культуры признаются обществом весьма ценными объектами, то уникальность человеческой личности остается практически незаметной. Очень небольшое число личностей становятся объектом общественного интереса, при этом такой интерес часто несопоставим с истинным ценностным личностным потенциалом (т. е. силой воли, разума и чувств, которыми наделен данный индивидуум). Таким образом, мы вполне можем оценить произведение искусства, но вряд ли сможем правильно оценить личностный потенциал его создателя.
Собственно, в этом и заключается проблема ценности человеческой личности. Ее можно сформулировать следующим образом: «Человечество не имеет объективных критериев оценки человеческой личности вне общечеловеческого контекста». То есть абстрактная личность в ценностном плане рассматривается как некий универсум, в то время как ценность конкретной личности абсолютно субъективна.
Антропоцентризм не может рассматривать человека в общей картине мира без его атрибутивной природы. Возводя человека на вершину «мира», антропоцентризм возносит туда же и личность. Более того, личность, собственно, и является тем атрибутом, который позволяет судить о человеке как о центре мироздания, поскольку его телесная биологическая природа порою менее совершенна (в отдельных жизненных проявлениях), чем природа других организмов или неживых объектов.
Футураструктурологический антропоцентризм порождает новое, нетипичное для предшествующих социально-философских воззрений представление о ценности личности.
Во-первых, личность ограничена в своих проявлениях первым-третьим постулатами футураструктурологии не только на сознательном уровне, но и на уровне физиологическом и психическом. Личность не может проявлять себя вне системы постулируемых ценностей и тем более противостоять ей. Ценность личности становится проекцией ценностных установок, определяемых постулатами и следствиями из них. Попытка отказа от следования постулатам неизбежно снижает общественную ценность личности. Следствия из постулатов предусматривают в таких случаях возможные внешние воздействия на личность в части, касающейся ее воли и чувств. Здесь происходит разделение в общественной оценке индивидуума и его личности, при которой ценность индивидуума становится более значимой, чем ценность личности. Отдельные аспекты личностных проявлений могут быть подавлены внешними воздействиями (например, психокоррекцией), однако здоровье и жизнь индивидуума при этом защищены первым, вторым и третьим постулатами.
Во-вторых, общественная ценность личности измеряется по результатам ее творческой самореализации. Равный доступ к творческой деятельности и общественные гарантии творческого развития создают условия для такой самореализации. Вместе с тем личность не детерминирована в определении рационального течения своей жизни и характера творчества. Она независима от общества в установлении верхних пределов своих рациональных творческих достижений, но рационально ограничена в своих бытованиях. Творческие достижения формируют личностный вклад в резервные фонды местных сообществ, которые, несомненно, будут определять общественную ценность творческой деятельности личности (на местном, национальном и общечеловеческом уровнях). Для творческих достижений разделение обществом ценности личности и индивидуума нехарактерно. Однако человек, пренебрегающий творчеством и предпочитающий удовольствия, может рассматриваться местным сообществом как социально незрелая личность, что, конечно, снижает в глазах окружающих ее ценность, но при этом не создает каких-либо ограничений для индивидуума в распространении на него действий первого-третьего постулатов.
В результате мы имеем критериальный подход к объективной общественной оценке каждой личности, который обусловлен двумя критериями: следованию постулируемым общественным ограничениям и индивидуальными творческими достижениями (вкладом в общественное творческое развитие). Каждый из критериев имеет свою систему объективных показателей (социального и экономического характера), которые, как мы отметили выше, входят в систему государственного (общественного) индивидуального учета. Следовательно, общество, совершая набор простых действий, может объективно оценить личность в системе общественных и индивидуальных ценностей и воздать индивидууму должное. Таким образом, мы приходим к одному из возможных решений проблемы ценности человеческой личности, основываясь на идее футураструктурологического антропоцентризма.
Завершая обсуждение проблемы ценности личности, невозможно обойти вниманием соотношение этого представления с такой антитезой, как индивидуализм и коллективизм. Мы склонны позиционировать индивидуализм как общественное явление с недооценкой личности. Способствует развитию индивидуализма также и переоценка самоценности личности. Очевидно обратное: признание обществом, коллективом общественной ценности личности и объективная самооценка своей роли в обществе способствует развитию коллективизма. Это не просто психология, но и сложившееся веками представление о месте человека в обществе и внутри каждого сообщества. Продвижение идей индивидуализма не противоречит антропоцентричной идее ценности каждой личности. Однако оно может создавать эффекты обособления личности в обществе. Чем выше степень такого обособления, тем более личность противопоставляется обществу, тем ниже ее общественная ценность. Здесь мы приходим к сложному представлению об индивидуальной общественной ценности личности, которая созвучна дифференциации общественной ценности личности. Оно заключается в том, что чем более индивидуум изолирован от участия в общественной жизни, тем более он изолирован от системы общественных оценок личности. Для него это может быть и хорошо, и плохо. Все зависит от того, нуждается ли он в общественном признании своих заслуг или нет. Поскольку все-таки абсолютное большинство людей нуждается в таком признании, то это скорее плохо.
Футураструктурологическая перспектива обрисовывает нам человека – и индивидуалиста, и коллективиста. Чего в этой личности больше? С одной стороны, мы склонны видеть во всеобщей системе ценностей индивидуалистическое начало. Эта система эгоистична. Эгоистично стремление к сохранению собственной жизни, эгоистично стремление к получению удовольствий, и даже эгоистично стремление к покою. Индивидуальная форма творчества также соревновательная и эгоистичная. Коллективистское общественное начало возникает из признания ценности каждой человеческой жизни, из стремления разделить удовольствие с другими близкими и далекими людьми, из гармонического общественного беспокойства. Сотворчество – великое объединительное начало, а общественное признание достижений творца – главный стимул для творчества. Таким образом, во всеобщих ценностях, в процессе их обретения, несомненно, присутствует и коллективистское объединяющее начало. Значит, задача общества и государства состоит в том, чтобы гармонизировать в образе личности человека будущего его индивидуалистические и коллективистские качества. Мы уверены в том, что эта задача может быть решена на основе следования по пути человеколюбия и отказа от любых проявлений человеконенавистничества.
Обращаясь к методологии вопроса, мы возвращаемся к нашей интерпретации гильотины Юма. Нам хотелось бы видеть в человеке будущего образ человеколюбивой личности, гармонично соединяющей в себе индивидуальность и желание жить интересами других людей, тот образ, что приближает свойства личности человека к традиционному божественному образу. Это и есть, по сути, абсолютизация антропоцентризма, соединяющего в человеке все начала мира.
Футураструктурологический антропоцентризм, таким образом, является институциональной основой организации социальной жизни изменяющегося человека. Его гуманистическая критериальная система позволяет сосуществовать человеку в его традиционной и генно-модифицированной форме, биочеловеку и техночеловеку, человеку и андроиду. Об этом мы порассуждаем в следующей главе.
Глава 14. Антропотрансформирование. Искусственное воспроизводство, генно-модифицированное клонирование и проблема людей «второго сорта». Антропоморфирование. Люди и андроиды. Вытеснение человека разумного или сосуществование
Взял ее за руку он… И чудесное что-то свершилось…
Сердце под мраморной грудью тревожно забилось,
Хлынула кровь по очерченным жилам ключом,
Дрогнули гибкие члены, недавно еще каменелые,
Очи, безжизненно белые,
Вспыхнули синим огнем.
Л. А. Мей12Ранее мы высказались о том, что человек как индивидуум и личность – неравнозначные представления. В процессе естественного развития индивидуум претерпевает внутренние анатомические, физиологические и психические изменения, а личность как социальная категория развивается извне под влиянием общественного опыта. Изменения индивидуума оказывают влияние на самоопределение и поведение личности, но и самосознание личности может оказать влияние на габитус и психику индивидуума. Искусственные изменения индивидуума, вытекающие из природы телесного самосовершенствования, касаются внешней формы человека и его внутренней анатомии и физиологии. В прошлом и настоящем они были продиктованы необходимостью сохранения здоровья человека, а также и эстетическими соображениями. Искусственные изменения личности, вытекающие из осознанного самосовершенствования сознания в его интеллектуальных и чувственных проявлениях, до настоящего времени были практически недостижимы. При этом мы сознательно исключаем некоторые эксперименты с пограничным сознанием и подсознанием, сомнительные хирургические воздействия на головной мозг здорового человека и химические стимуляции творческой активности при измененном сознании.



