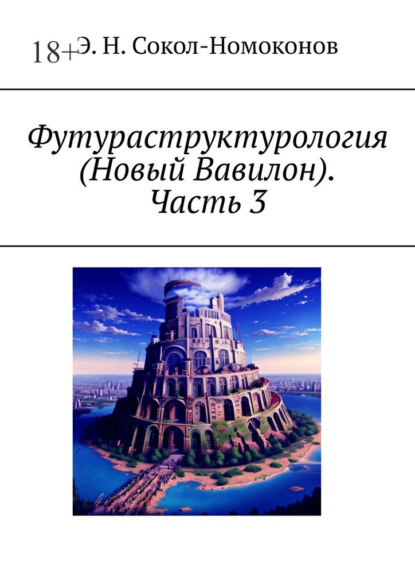
Полная версия:
Футураструктурология (Новый Вавилон). Часть 3
Завершая наше краткое исследование воззрений человечества на свою роль в мировом бытие, мы можем сделать вывод о возрастании в обществе антропоцентристких тенденций и их проникновении в теоцентристские и космоцентристские воззрения. Можно констатировать, что наши современники, несмотря на распространенность религиозных верований, в большинстве своем рассматривают человека как основную и решающую разумную силу, приспосабливающую окружающий мир для себя.
Оптимистически взирая на распространенность антропоцентристских представлений, мы не должны забывать о том, что в реальности антропоцентризм различными социальными группами понимается по-разному. Очень часто он выступает в качестве антропоцентризма «для себя», когда одна часть общества не считает другую его часть равноценным явлением. Более того, эта другая часть согласна с истинностью этой позиции, считает себя угнетенной и противостоит своим антагонистам. В связи с этим возникает целесообразность рассмотрения представления о социальном антропоцентризме как неполноценном представлении, отличном от изначального.
В доантропоцентристский период (то есть до появления античных представлений об антропоцентризме), безусловно, существовали общественные представления о роли человека в природе и обществе. Они также имели различную глубину философского осмысления. Очевидно, что первые, обыденные представления подобного рода возникли в древнейших человеческих сообществах в форме ролевых (функциональных) и половых различий членов этих сообществ. Понималось объективное неравенство людей в племенах и родах по их полу и значению в социальной жизни (в этом смысле можно обратить внимание на содержание пьесы Александра Володина8 «Ящерица»). Социальная дифференциация, которую мы обсуждали ранее, порождала социальное неравенство. С позиций антропоцентризма это означало бы, что центром бытия могут стать все люди, но положение некоторых из них все же окажется более центральным и более значимым для судеб всего сообщества. Это поло-ролевые предпосылки социального антропоцентризма.
В известных нам древних культурах (Индия, Египет, Китай, Япония и др.) социальная дифференциация усугубляется, порождая кастовое общество. Это собственно кастовые предпосылки социального антропоцентризма. В нем уже появляются социальные группы, которые отделены от общества в целом и не имеют статуса полноценного человека (неприкасаемые). Естественным образом общество не распространяет на них каких-либо антропоцентристских представлений и иногда даже выводит их происхождение от других древних предков (устанавливая видовые различия).
Рабство также вносит представление о рабе как о неполноценном человеке, усиливая социальную дифференциацию вне зависимости от сословного происхождения человека или социальной группы. Это обстоятельство оказывает влияние и на античную философию. В частности антропоцентристские представления Аристотеля, адресованные свободному человеку, не распространяются на рабское сообщество. Это социальный антропоцентризм в антитезе «раб – свободный человек». При этом антропоцентризм, конечно, не является главенствующей мировоззренческой идеей, поскольку античное общество существует в политеистической религиозной парадигме и отдельные проявления материализма в философских учениях не определяют социальную жизнь общества в полной мере. Античная общественная реальность основана на сословном делении общества, и гражданское равенство жителей республиканских городов не отражает реальной социальной дифференциации. Возникновение монархических обществ вовсе снимает вопрос о равенстве патрициев и плебса. Таким образом, античная общественная реальность ни в коей мере не соответствует антропоцентристской парадигме.
В дальнейшем социальный антропоцентризм эволюционирует в различных общественных системах двояким образом. С одной стороны, в гуманистической общественной мысли (причем и религиозной, и светской) формируются представления о ценности человеческой личности, не связанные с сословной организацией общества. С другой стороны, общественный уклад жизни с той или иной системой светской и религиозной власти официально отказывает в каком-либо равенстве большей части людей. Дистанция между монархом и дворянами так же велика, как и дистанция между дворянами и простолюдинами. Противоречие между этими общественными явлениями настолько значительно, что порой они разрешаются самым радикальным способом – обвинением мыслителей в инакомыслии и их уничтожением. Этот сословный социальный антропоцентризм указывает на вертикальную иерархию ценностного содержания личностей в существующей системе власти. Вся эта система встроена в абсолютную теоцентрическую конструкцию и является ее редуцированной частью. В ее основе лежит узаконенная (религиозно, юридически и нравственно) экономическая эксплуатация одних сословий другими.
Возрождение и Просвещение в конечном итоге расшатывают упорядоченный сословный антропоцентризм до наступления социальных революций. Однако ранее возникают зародыши классов и капиталистических отношений. Буржуазные революции в Европе, а затем и во всем мире начинают глубинную трансформацию общественных отношений с усилением роли антропоцентристских идей в обществе (иначе старый сословный уклад не сломить). Эту эпоху можно связать с появлением классового социального антропоцентризма. Здесь имеет место экономическое неравенство, которое и определяет неравенство социальное и парадигмальное, то есть неравенство в отношении ценности личности, измеряемое размером ее материального богатства. Здесь эксплуатация закреплена юридически, но нравственно она порицается (в том числе и некоторыми традиционными религиозными институтами). Расцвет капитализма сопровождается появлением, распространением и угасанием новой системы рабства, которая связана с колониальной [216] деятельностью европейских государств. Это означает, что одновременно с классовым социальным антропоцентризмом формируется идеологизированная система расового социального антропоцентризма, впоследствии перерастающего в националистический социальный антропоцентризм двадцатого века. В СССР, наоборот, закрепляются отношения классового социального антропоцентризма, но исчезает представление об эксплуатации, хотя подавление некоторых классов остается и меняется местами, то есть подавляется класс буржуазный.
Таким образом, новое время представлено одновременным существованием классового, расового и националистического социального антропоцентризма, распространенного в разных частях света. Здесь мы наблюдаем начало борьбы противоположных общественных укладов, которые дифференцированы по отношению к содержательной парадигме социального антропоцентризма и антагонистичны по отношению друг к другу. В таком состоянии человечество находится по настоящий момент, несмотря на содержательные дрейфы в экономических укладах разных стран.
Особенностью последних десятилетий новейшей истории становится формирование потребительского социального антропоцентризма. Так мы решили его назвать, поскольку он рассматривает каждого человека как равного потребителя общественных благ. В его основе лежит суррогатная экономика как основное средство потребительского выравнивания. Поскольку реального экономического равенства не существует, и в суррогатной экономике сохраняются признаки классового социального антропоцентризма. Они проявляются в периоды экономических кризисов и продолжают будоражить беднейшие страны, где уровень потребления остается низким. Тем не менее потребительский социальный антропоцентризм содержит в себе потенциальную возможность вхождения в футураструктурологическую парадигму, поскольку он не противоречит в целом второму и третьему постулатам футураструктурологии.
Все перечисленные нами формы социального антропоцентризма, без всякого сомнения, являются примерами антигуманных общественных мировоззрений (в той или иной их составляющих). Антигуманность основана на том, что всегда сохраняется некоторая часть общества, которая ограничена в единой системе оценок социального антропоцентризма и противопоставлена общественным мнением остальному обществу. Ценность этих личностей и их социальных групп рассматривается как более низкая, чем некая абстрактная ценность личности. В новейшей истории геополитические и геоэкономические противоречия возрождают элементы националистического социального антропоцентризма, которые встроены в систему потребительского социального антропоцентризма и потенциально ведут к его разрушению через экономические кризисы. Хотя это лишь тенденции, они представляются нам тревожными и усиливают антигуманность общественных представлений.
Если обозревать эволюцию социального антропоцентризма в целом, то мы можем обозначить эффект периодического возрастания и снижения антигуманности. Мы можем утверждать, что происходит некоторый дрейф в сторону утверждения и распространения позитивистских гуманистических идей (не имея в виду некоторые нормативные представления о гуманизме). Однако они не являются общепринятыми и дифференцированы для разных стран и народов (вероятно, и разнообразных культур внутри некоторых мультикультурных стран). Мы можем наблюдать рудименты [217] всех форм социального антропоцентризма в современном мировом сообществе (из-за действия эффекта накопления антигуманности), и это означает, что без революционных изменений, связанных с переходом в футураструктурологическую парадигму, то есть к футураструктурологическому социальному антропоцентризму, человечество не сможет выйти из многовековых противоречий. Далее перейдем к обсуждению наших представлений об этом футураструктурологическом социальном антропоцентризме.
Футураструктурологический социальный антропоцентризм возникает из сформулированных нами постулатов. Поэтому дальнейшее исследование революционных изменений в антропоцентричных воззрениях людей мы проведем, следуя этим постулатам и следствиям из них.
Никакая деятельность не усиливает антропоцентризм настолько, как это делает забота о продолжительности жизни человека. Изменение тезиса о предопределенности течения человеческой жизни высшей божественной силой либо его биологической природой в направлении самоопределения ее течения самим человеком (как и усилиями всего человечества) подкладывает под теоцентризм и космоцентризм «мину замедленного действия». Поэтому следствие постулата об искусственном увеличении продолжительности активной человеческой жизни, которое является одним из главнейших постоянных приоритетов науки и практической медицины в неопределенной перспективе, влечет за собой общественное признание неисключительной силы бога или природы в установлении пределов жизни человека.
Конечно, речь идет не о продлении жизни за счет улучшения ее качества, включая заботу о физическом здоровье человека. В нашем случае мы говорим о творческом воздействии на фундаментальные биологические (генетические) механизмы старения, об отрицании фундаментальных эволюционных законов, основанных на изменчивости человека как биологического вида в духе трансгуманизма [218]. Здесь, конечно, мы попадаем в философские клещи, образуемые с одной стороны теософским тезисом о неизменности и данности человека как божественного творения и с другой стороны – научным тезисом о его непрерывной изменчивости как вида в целях приспособления к изменяющейся внешней среде. Создавая механизмы регулируемого искусственного старения, мы попадаем в поле религиозных построений, утверждающих, что на все воля божия и что новое долголетие дано нам сверху как награда за труды (научный поиск). Причем в области действия веры этот тезис неоспорим, и мы лишь усиливаем теоцентричные позиции людей веры. Вместе с тем такие механизмы не противоречат и биологической парадигме, поскольку консервация человеческого вида на длительный период предполагает особые граничные условия для применения биологических эволюционных законов, а в ускоренных темпах изменчивости нет необходимости, поскольку сам человек погружается в искусственную среду обитания, благоприятную для его существования и не стимулирующую неконтролируемую изменчивость. Таким образом, мы не подвергаем сомнению биологические законы и не создаем кризиса для космоцентричных воззрений (например, для постгуманизма [219]).
И все-таки, несмотря на различные доводы в пользу сохранения в обществе теоцентричных и космоцентричных воззрений, мы отодвигаем их на второй план антропоцентричной идеей саморегулирования человеческой жизни.
Возможна ли при этом непримиримая позиция религиозных институтов и их антагонистическая деятельность, противоречащая второму следствию (любые действия религиозных, политических, идеологических общественных институтов, направленные на создание препятствий в реализации следствия 1, признаются антиобщественными либо преступными, в зависимости от опасности этих действий для жизни будущих поколений)? Ведь это создает серьезные общественные противостояния, которые требуют поисков их консенсусного разрешения. Сегодня религиозные институты довольно активно протестуют против любых исследований, способных изменить человеческую природу на генетическом уровне. Наиболее консервативная их часть выступает даже против медицины, занимающейся предупреждением генетических нозологий. В этом смысле необходим поиск компромиссов и поиск новых теософских [220] концепций, не противоречащих основным догматам мировых религий. Учитывая мировой опыт трансформаций религии в новой истории, мы склонны предполагать достижимость дальнейших трансформаций (возможно, влекущий за собой дальнейший раскол и дробление религиозных институтов).
На наш взгляд, возможность достижения общественного консенсуса возникает из-за угрозы утраты веры, которая требует от человека выбора в антитезе «долгая» жизнь – «ранняя» смерть. Если такой выбор возникает, то он создает условия для самопожертвования во имя веры, на что большая часть современных людей неспособна. Поэтому неуступчивая позиция религиозных институтов, посягающая на главную человеческую ценность, на наш взгляд, может привести к массовому вероотступничеству. Примирить эти позиции, несомненно, может неизбежность смерти. Какой бы длительной ни стала человеческая жизнь, она не может быть бесконечной в силу физических законов. Собственно, предельная продолжительность биологической жизни человека должна возникать апостериорно, поскольку социального опыта неограниченно долгой жизни у человечества нет. Принимая тезис о неизбежной перспективе смерти, религиозные институты, согласные с увеличением продолжительности жизни научными методами, сохраняют себя. Интересно, что исследование подобных общественных феноменов характерно для некоторых направлений литературной фантастики (наиболее ярким примером можно считать тетралогию Дэна Симмонса9 о Гиперионе, в которой допускается возможность телесного бессмертия (воскрешения) человека под сенью трансформированной католической церкви).
Важно отметить, что по другим следствиям из первого постулата в большинстве мировых религий нет альтернативных позиций. Все религии осуждают суицид, убийство человека и искусственное прерывание беременности.
Традиционные религиозно-судебные институты допускают смертную казнь, и это потребует их изменения. Альтернативная пожизненная гибернация, наверное, может быть принята под давлением светского общества даже в консервативных юридических системах, однако она должна быть следствием выбора между гибернацией и реморализацией.
Со стороны религиозных и либеральных социальных институтов нам, вероятно, следует ожидать сложности в вопросах реморализации человека, ибо любое воздействие на сознание воспринимается ими как воздействие на человеческую душу и свободу личности. До сих пор мы не исследовали возможную общественную реакцию на появление подобных технологий. Чтобы попытаться предсказать ее характер, необходимо заглянуть в историю вопроса. В проблеме реморализации присутствуют две стороны. Во-первых, традиционная реморализация как результат религиозного воспитания – это древнейший социальный инструмент каждой религии, опирающейся на морально-нравственные аспекты человеческого бытия. Более того, многие нравственные нормы одновременно являются религиозными догматами, существующими как божественные заповеди либо как откровения пророков. Это существенно усиливает их воздействие как инструмента воспитания. В этом смысле реморализующее воздействие не только не отрицается каждой религией, но и является основой религиозного бытия. Вместе с тем процессы религиозной реморализации в истории религии часто сопровождаются таким несоразмерным давлением на людей аморальных, что это вызывает их неприятие современным обществом. Во-вторых, светская реморализация непосредственно связана со светским воспитанием, которое имеет грандиозный опыт проб и ошибок, подтверждающий распространенное мнение, что достижение реморализующего воздействия не гарантировано ни одним из известных методов воспитания (наиболее показательны в этом смысле альтернативные воспитательные концепции Джона Локка10 и Иоганна Г. Песталоцци11).
В современном обществе распространено мнение о недопустимости любого воздействия на человеческое сознание, приводящее к его изменению, если это не является областью психиатрии. Пластичность этого представления просто невероятна, особенно в свете новейших общественных концепций свободы личности. Они допускают такие трансформации современной морали, которые даже с позиций начала прошлого века являются просто аморальными. Предпринимаемые попытки создания в этой области новых правовых конструкций порождают парадоксальные по своей результативности судебные прецеденты, которые не разделяются моральными представлениями большинства общества, а другую ее часть заставляют, скрипя зубами, имитировать общественную поддержку таких социальных новаций. Современные религиозные институты, отождествляя человеческое сознание с проявлениями душевных сил, также выражают сомнения по поводу любого физического (химического) воздействия на него (примирившись с некоторыми гуманными методами медицинской психиатрии).
Со своей стороны психиатрия признает допустимость психокоррекционных воздействий на мозг человека исключительно в случае наличия психиатрического диагноза, исключая такие воздействия в отношении здорового, но аморального (даже преступно аморального) человека. Вместе с тем успехи современной психиатрии и биологии и физиологии мозга позволяют определить способы психокорректирующего воздействия, подавляющего агрессию в долгосрочной перспективе и кратковременно (на фоне вспышек активности мозга), а также способы воздействия на другие мозговые центры, ответственные за иные эмоциональные проявления личности. Собственно, такие воздействия в некоторой совокупности являются поведенческой реморализацией на бессознательном уровне (то есть на уровне поведенческих ограничений). Физическая коррекция сознательного аморального поведения, по-видимому, невозможна до понимания природы сознания и природы ее взаимодействия с человеческим мозгом. Некоторые философские взгляды, как мы знаем, вообще отрицают такое познание.
Мы приходим к выводу о том, что в современности возможности психокоррекции асоциального поведения достижимы и реализуются в отношении психически больных людей, в том числе демонстрирующих асоциальное поведение, но табуированы в отношении девиантного поведения людей, признаваемых психически здоровыми. Религиозные и светские институты в целом придерживаются традиционных морально-этических норм и соотносимых с ними религиозных догматов, но допускают определенный дрейф в направлении снятия некоторых моральных запретов. Не видится перспектив с отступлением современного общества и его институтов от убеждения о недопустимости криминального убийства. Обобщая все вышеизложенное, мы можем высказать предположение об общественной допустимости физической психокоррекции агрессивного поведения человека, если оно способно порождать угрозы для жизни и покоя других людей.
Верховенство ценности жизни индивидуума над ценностью свободы личностных проявлений других людей при различном отношении к этой дилемме современного человека и общественных институтов, по нашему мнению, является гуманистическим.
Человек существует лишь как живой биологический субъект. Со смертью человек прекращает существование. Поэтому в философском и обыденном планах человек может являться центром бытия постольку, поскольку он жив. Соответственно, насильственное прекращение жизни человека лишает его возможности являться центром бытия, а, следовательно, такое действие противонаправлено антропоцентризму.
Поразительно, но с позиций теоцентризма или космоцентризма насильственное прекращение жизни не является абсолютно недопустимым. Теоцентризм ставит человеческую жизнь в зависимость от божественной воли, которая может выражаться в том числе в действиях других людей. Именно поэтому теоцентризм наряду с сохранением в большинстве религий догмата о недопустимости убийства человека человеком сохраняет при некоторых обстоятельствах допустимость смертной казни и убийство инаковерующего. Природоцентризм основан на тезисе о конечности жизненного цикла и необходимости смерти как движущей силы биологической эволюции, который рассматривается как фундаментальный механизм биологического развития. Поэтому цепочки рождений и насильственных смертей являются в природе формами проявления трофического поведения, свойственного в том числе человеку. Эти и другие аргументы указывают нам на необходимость абсолютизации антропоцентристских воззрений при следовании первому постулату футураструктурологии и допустимости в обществе только тех теоцентристских и космоцентристских идей, которые ему не противоречат.
Второй постулат, конечно, антропоцентричен по определению, ибо осознанно создаваемое удовольствие – это действие, присущее исключительно человеку и направленное на него, а не от него. Футураструктурологический антропоцентризм создает культ рациональных удовольствий, где нет места любому другому началу, ибо все завершается внутри человеческого восприятия. Суррогатные, то есть искусственно создаваемые человеком, удовольствия делают его независимым от воли и участия других людей. Погружаясь в мир суррогатных удовольствий, человек будущего концентрирует внимание на индивидуальной системе удовольствий, полностью соответствующей его индивидуальной системе восприятия. Это предполагает избирательность в системе суррогатных удовольствий. В этом смысле каждый человек становится центром избирательного отношения для себя.
Это обусловливает появление представления об индивидуальном удовольствии, в котором обретается личное телесное счастье. Не нуждающийся в соучастии в обретении такого состояния человек эгоистичен. Вместе с тем человек как биологическое и общественное существо все еще нуждается в сожительстве, общении и сопереживании. В этом смысле для него ценны состояния коллективного (группового) счастья. Наконец, представление о том, что все люди могут быть счастливы, создает для человеколюбивого общества завершенную гармоничную картину мира. Если для обретения счастья в гармонии не требуется обращения к другим первоосновам, то они становятся незначимыми.
Теоцентризм и космоцентризм, как мы показали ранее, предполагают внешние ограничения человеческой жизнедеятельности. Система таких ограничений основана на религиозных и морально-этических общественных представлениях. Однако второе следствие второго постулата не связывает систему искусственных удовольствий с подобными ограничениями, относя их исключительно к внутреннему миру человека. Действие второго следствия создает действительные испытания для людей с консервативными религиозными и моральными воззрениями и устоями. Внешне оно должно рассматриваться ими как искушение, поскольку дозволяется то, что подлежит внутреннему табуированию. Консервативный активист, вероятно, будет настаивать на распространении своей консервативной позиции на других членов общества (как это часто происходит в действительности). Это приводит к определенному расслоению моральных критериев и, возможно, социальному обособлению людей с полярными воззрениями на моральные ограничения. В этой ситуации общественной гарантией самопроявлений в получении удовольствий, помимо второго следствия, должны стать редуцированные нормы права, гармонично защищающие такие полярные позиции и препятствующие общественному противостоянию. На наш взгляд, среди таких гарантий должны быть ограничения в информационной сфере, препятствующие распространению личной информации о предпочтениях в получении тех или иных удовольствий. В целом мы попадаем в новый мир с множественными индивидуальными моральными кодексами, которые не действуют в отношении других людей. Число таких кодексов конечно, а следовательно, множество людей будут объединяться вокруг них в социальные группы (возможно, связанные с местами обособленного расселения). Конечно, с современной точки зрения появление городов, в которых проживают, например, одни нудисты, представляется из ряда вон выходящим событием, но в рассматриваемой перспективе это скорее возможность.



