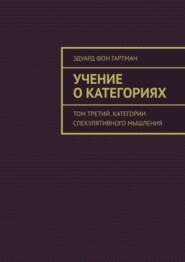
Полная версия:
Учение о категориях. Том третий. Категории спекулятивного мышления
Пространственность, временность и причинность действительно неразделимы, но не как полагает трансцендентальный идеализм, как имманентные формы множества содержаний сознания, а лишь как трансцендентные формы единого объективно реального мира-процесса. В содержании сознания именно там временность отделяется от пространственности (в восприятии непространственных чувств), а временность и пространственность отделяются от причинности (в беспричинной последовательности ощущений и восприятий). -
Философы обычно полагают, что причинность возможна только между однородными референтами, но не между разнородными. Причинность между гетерогенными вещами", или с небезобидной лингвистической аббревиатурой: „гетерогенная причинность“, с незапамятных времен объявлялась невозможной. Особенность этого утверждения состоит лишь в том, что оно преподносится без всякого обоснования, как невольная индукция из опыта, с которой все должны автоматически согласиться. Для этого, однако, необходимо более точное разграничение гомогенного и гетерогенного; ведь опыт учит нас, что друг на друга действуют вещи, которые в широком смысле слова называются гетерогенными (397), например, вода и огонь, земля и воздух, знатные и простые люди. Отсюда сразу же следует, что однородность воды и огня, земли и воздуха заключается в их общей материальности, благородных и простых людей – в их общей духовности, тогда как материя и дух определяются как разнородные, и это единственный известный нам пример разнородности. Таким образом, невозможность гетерогенной причинности представляется утверждением, сделанным лишь для того, чтобы отрицать причинность между материей и духом. Если, однако, гетерогенная причинность ограничивается единственным случаем, когда материя действует на разум или наоборот, можно подумать, что утверждение о ее невозможности найдет достаточную поддержку в опыте, по крайней мере, для этого случая. Однако все обстоит с точностью до наоборот. Опыт показывает, что наш дух постоянно находится под влиянием материальных вещей и в свою очередь воздействует на них своими действиями и поступками, что сознательный дух полностью зависит от своего тела, но что тело, в свою очередь, во многом зависит от произвола духа. Этот опыт необходимо сначала устранить, объявив его ложной, обманчивой видимостью; только тогда откроется путь для утверждения, что гетерогенная причинность в этом узком смысле слова невозможна. Однако остается задача показать, как эта видимость может возникнуть без гетерогенной причинности, и все системы, отрицавшие гетерогенную причинность, не смогли решить эту задачу.
Поскольку это утверждение не находит поддержки в опыте и должно быть искусственно переосмыслено, чтобы ему противостоять, можно было бы предположить, что оно имеет априорное происхождение. Но это невозможно по той простой причине, что невозможно определить a priori степень различия, необходимую для того, чтобы прийти к неоднородности, исключающей причинность. Либо каждая степень различия, сколь бы незначительной она ни была, отменяет возможность причинности, либо также невозможно априорно предусмотреть, почему это должно происходить только с определенного предела, разделяющего более высокую и более низкую степень различия. Либо только абсолютно равные вещи, не имеющие никакого различия, способны (398) вступать в причинную связь, либо даже самая высокая степень различия как таковая не может быть априорным препятствием для причинности. Если различие, превышающее определенную степень, препятствует определенному виду причинности между вещами, то для этого должны существовать вполне определенные конкретные фактические причины, которые также могут быть показаны при достаточном знании фактов; но простая степень абстрактного различия никогда не препятствует.
Если бы считалось, что причинность связана с равенством, то, во-первых, опыт должен был бы показать пропорциональность степени равенства тесноте причинных отношений, чего отнюдь не происходит. Во-вторых, материя и разум, тело и душа также должны были бы демонстрировать абсолютное отсутствие равенства, если бы причинно-следственные связи между ними были равны нулю, а это еще менее вероятно.
Даже согласно Декарту, обе субстанции созданы одним и тем же Творцом, так что в этих общих детерминациях у них все равно достаточно точек, в которых они равны. Эгоцентричный разум полагал, что возвысит себя, если полностью откажется от материи и разорвет все связи между собой и материей. Таким образом, в случае Декарта это была, по сути, ошибочная самонадеянность разума, который в угоду себе утвердил догму о невозможности гетерогенной причинности. Абсолютная гетерогенность с абсолютной несвязанностью, которая также включает в себя каузальную несвязанность, может существовать только между несколькими абсолютами и связанными с ними мирами, но никогда между компонентами одного и того же мира. В случае абсолютной реляционности, однако, снова не имеет значения, являются ли абсолюты, не связанные друг с другом, гетерогенными или гомогенными. Таким образом, беспричинность может существовать, несмотря на гомогенность, а причинно-следственная связь – несмотря на гетерогенность. Более того, материя и дух, тело и душа, материальный и духовный индивид даже не являются гетерогенными в том смысле и степени, которые предполагал Декарт. Спиноза уже признавал относительность понятия индивида и градационный порядок индивидуальности, а Лейбниц сделал из этого вывод, что отношение между телом и душой – это лишь отношение доминирующей центральной монады к низшим монадам, втянутым в ее область (399). Это, однако, превращает якобы гетерогенную причинность между душой и телом в фактически гомогенную.
Душу здесь следует понимать в более узком смысле слова как индивида высшего порядка, поскольку она понимается не в смысле ее материального состава, а в смысле ее объединяющей (организационной) эффективности; тело же – это совокупность индивидов низшего порядка, поскольку оно рассматривается как уже организованное, т. е. связанное с индивидом высшего порядка, но отделенное от функции, которая его объединяет, централизует и организует. Таким образом, душа – это индивидуирующая деятельность более высокого порядка, а тело – сумма индивидуирующих деятельностей более низких порядков. Однако индивидуализирующая деятельность высшего порядка немыслима без вклада в материальный облик целого, то есть без динамичной, объективно реальной функции, которую можно описать как материальный экстерьер индивида высшего порядка, или, в смысле Лейбница, как его неотделимое тело в собственном смысле слова. С другой стороны, материальные индивиды низшего порядка сами являются одушевленными индивидами, которые бессознательно проявляют духовную и сознательно духовную деятельность. Таким образом, так называемая душа – это индивид высшего порядка, объединяющий в себе духовные и материальные функции, или душу и тело, а так называемое тело также состоит из всех индивидов, объединяющих в себе духовные и материальные функции, душу и тело. Таким образом, взаимодействие между ними – это взаимодействие между психофизическим индивидом высшего порядка и подчиненными ему психофизическими индивидами низшего порядка. Как психофизические индивиды, оба они не гетерогенны, а гомогенны, и их различие лишь постепенное, в соответствии с их рангом в иерархии индивидуальности.
Внешняя и внутренняя стороны одной и той же индивидуальной функции вполне могут быть названы психической и физической, духовной и телесной, ментальной и материальной сторонами индивидуальной деятельности; но их уже нельзя противопоставлять как душу и тело, дух и тело. Там, где мы говорим о душе и теле, о разуме и теле, всегда должен присутствовать составной индивид более высокого порядка, где душа предпочтительно оказывается на стороне высших, (400) а тело – на стороне низших индивидов. Когда Лейбниц приписывал индивидуальной душе неотъемлемое тело, он как бы материализовал динамический вклад, который высшая индивидуальная функция вносит в материальный облик индивида в целом, и смешал его с гипотетическим эфирным телом ван Гельмонта (σώμα πνευματικόν Павла). Причинность между душой как центральной монадой и телом как суммой управляемых ею и прикрепленных к ней монад только по видимости является внутрииндивидуальной, а на самом деле – межиндивидуальной. Она внутрииндивидуальна лишь постольку, поскольку связана с тем индивидом более высокого порядка, который состоит из центральной монады и присоединенных к ней монад, но межиндивидуальна как по отношению к суммам доминирующих монад, так и по отношению к доминирующей над ними центральной монаде.
Межиндивидуальная причинность между центральной монадой и управляемыми ею монадами целиком относится к объективно-реальной сфере, или полностью принадлежит стороне природы. Мы не знаем ни одной межиндивидуальной причинности, которая вела бы непосредственно от сознания одного индивида к сознанию другого, не будучи опосредована естественными, объективно-реальными воздействиями индивидов друг на друга. Даже те, кто считает возможным магический перенос воображения из одного сознания в другое, все равно считают его каким-то образом опосредованным, будь то через эфирные вибрации между мозгами, будь то через влияние бессознательной магической воли, но всегда через телико-динамические воздействия, которые принадлежат уже не к субъективно-идеальной сфере внутренне обращенного и самоопределяющегося бытия-для-себя, а к объективно-реальной сфере внешне обращенного, внешне возникающего бытия-для-другого. То, что относится к отдельным индивидам, относится и к тем, кто органически связан с индивидом более высокого порядка, за исключением того, что в последнем случае посредничество облегчается. Это относится не только к взаимодействию высших и низших нервных центров одного организма друг с другом, но и к отношениям высшего нервного центра в организме с бессознательной психической деятельностью, которая синтетически реагирует на получаемые ею стимулы ощущениями, взглядами и идеями и телеологически направляет сознательный процесс воображения, мотивационный процесс и органические явления жизни. Повсюду происходят реальные процессы телико-динамического характера, которые вполне могут быть связаны с явлениями сознания или приводить к ним, но которые сами по себе бессознательно закономерны и бессознательно эффективны. Именно взаимодействие духовной природы с материальной имеет место в этих влияниях между душой и телом, так же как взаимодействие материальной природы с материальной имеет место в отношениях между различными нервными центрами одного и того же человека. Эта причинность между душой и телом, бессознательными психическими и бессознательными материальными функциями, духовной и материальной природой, протекающая целиком в объективно-реальной сфере, не должна поэтому смешиваться с наложением причинности из объективно-реальной сферы на субъективно-идеальную или наоборот, из бессознательных психически-телесных процессов на «содержание сознания или наоборот, из природы на сознательный дух или наоборот. Межиндивидуальная причинность между центральной монадой и доминирующими монадами или между доминирующими монадами между собой есть, как мы видели, однородная причинность. Внутрииндивидуальная причинность между процессом объективно-реальной и субъективно-идеальной сферы не может быть названа гетерогенной причинностью, потому что под ней мы привыкли понимать только причинность между разнородными субстанциями; но как переход от одного способа возникновения к другому внутри одной и той же субстанции она должна быть названа аллотропной причинностью, потому что в ней способ возникновения (tqotcoc;) превращается в другой (akhog). Противопоставление между этиотропной и изотропной причинностью теперь занимает место противопоставления между гетерогенной и гомогенной причинностью, которое стало несущественным благодаря осознанию того, что гетерогенные субстанции вообще не существуют. Изотропной является любая причинность, которая остается исключительно в субъективно-идеальной сфере или исключительно в объективно-реальной сфере, не вторгаясь в другую. Причинность, протекающая исключительно в субъективно-идеальной сфере, т. е. целиком в пределах сознания, была бы имманентной причинностью; хотя такая причинность предполагается не только обычным взглядом людей, но и многими философами, мы должны были выше (стр. 363-364, 372-377) отвергнуть ее как заблуждение. Поэтому остается единственный вид изотропной причинности – в объективно-реальной сфере.
Вопрос теперь в том, существует ли вообще этиотропная причинность, т. е. наложение причинности с объективно-реальной на субъективно-идеальную сферу и наоборот, или это тоже только иллюзия. Здравый смысл не сомневается в этом, но это ничего не доказывает, поскольку он поражен столькими ошибками и предрассудками. Натурализм (материализм, гилозоизм, плюралистический динамизм) предполагает аллотропную причинность, но только односторонне, от объективно-реальной к субъективно-идеальной сфере, а не наоборот; сознание становится для него сопутствующим явлением объективно-реального природного процесса, наличие или отсутствие которого не меняет хода последнего, а потому бесцельно для Вселенной как таковой и, следовательно, телеологически случайно. Сознательный спиритуализм, напротив, предполагает аллотропную причинность воздействия сознательной психической деятельности на материальные явления как в собственном, так и в других сознаниях, но не наоборот: он отрицает реальность объективно-реальной сферы вне всех сознаний, ограничивает разум сознательной психической жизнью, отрицает бессознательную психическую природу, как и бессознательную материальную, и видит в материальном мире лишь видимость сознания, обусловленную непосредственным изотропным взаимодействием в нем сознательной психической деятельности различных сознаний. Обе точки зрения можно здесь не принимать во внимание, поскольку они представляют собой противоположные односторонности, ни одна из которых не отражает в полной мере существование двустороннего мира видимостей. Каждая из них подчиняет одну из двух сфер видимости другой таким образом, что она опускается до своей видимости, а затем, разумеется, в своем течении должна идти параллельно с тем, видимостью чего она является. Таким образом, эти точки зрения можно также подвести под термин «субординация-параллелизм»: ведь параллельность процесса возникает здесь только благодаря тому, что ряд феноменальных следствий идет в ногу с рядом причин. Если координация двух сфер видимости должна осуществляться в том смысле, что ни одна из них не является исключительно побочным эффектом другой, то, кроме предположения об этиотропной причинности, остаются возможными только две другие точки зрения: тождество и координационный параллелизм. В первом случае аллотропная причинность заменяется метафизическим тождеством двух способов возникновения; функция и последовательность их изменений едины, а видимость их двойственности переносится как ложная видимость на субъективное сознательное представление, где, разумеется, ее происхождение также остается необъяснимым. Вторая точка зрения, координационный параллелизм, может опираться либо на агностицизм, либо на философию тождества. В первом случае он ограничивается констатацией параллелизма двух согласованных рядов явлений, но он негативно догматичен, поскольку отрицает аллотропную причинность между ними и объявляет причину параллелизма непознаваемой. В последнем случае он указывает причину параллелизма двух рядов явлений в том, что оба они являются согласованными вторичными побочными эффектами третьего, единственного первичного ряда изменений. Единственный реальный причинный ряд – это тогда третий, неизвестный нам ряд, который принадлежит уже не феноменальному миру, а метафизической сфере. Внутри каждого отдельного ряда явлений причинность должна быть тогда ложной видимостью, потому что каждый член каждого вторичного ряда явлений в достаточной мере определяется исключительно соответствующим изменением в третьем первичном ряду и не может быть определен вдвойне. По той же причине, исходя из этой предпосылки, следует отрицать и всякое влияние одного вторичного ряда на другой, так как в противном случае уравнение каждого члена также было бы сверхдетерминировано, и должны были бы иметь место столкновения между детерминациями с разных сторон. Мы оставляем агностицизм в стороне, поскольку он ничего не дает для позитивного знания и является догматическим в своих негативных утверждениях. Точка зрения тождества, как и точка зрения координационного параллелизма на основе философии тождества, выходят за пределы объективно-реальной сферы и переходят в область метафизическую. (Gr. I. 199—211.)
b) Каузальность в метафизической сфере
Тождество, параллелизм и аллотропная причинность ни в коем случае не являются согласованными видами одного рода, взаимоисключающими друг друга; скорее, отношения между ними таковы. Сторонники тождества исключают как параллелизм, так и аллотропную причинность; сторонники параллелизма предполагают тождество как основу параллелизма, но исключают аллотропную причинность. Наконец, сторонники аллотропной причинности не только предполагают тождество, но и принимают параллелизм как в целом верное выражение действительных отношений. Поэтому речь идет не об опровержении утверждений о тождестве и параллелизме, а о проверке их достаточности и исследовании права на отрицание аллотропной причинности.
а) Тождество и параллелизм.
Метафизическое тождество, лежащее в основе двойственности, – это двойное тождество, тождество субъекта и тождество функции. Прежде всего, это один и тот же субъект в психофизическом индивиде, который несет в себе двустороннюю активность; является ли это различным метафизическим индивидуальным субъектом в каждом индивиде или одним и тем же абсолютным субъектом во всех индивидах, здесь не имеет значения, поскольку мы рассматриваем только отношение двух сторон возникновения друг к другу в индивиде возникновения. Тогда одна и та же метафизическая функция, а именно логически определенная интенсивность, или законная сила, или исполненное идеи воление, производит двустороннюю видимость. Эта метафизическая функция предстает, с одной стороны, внешне как объективно реальная деятельность или физическое выражение силы, а с другой – внутренне как ощущение или сознание. Только с первой стороны ее появления возникает физический материальный индивид, и только со второй стороны – сознательно-духовный индивид, постигающий себя на высших уровнях как Я. Пока что представители всех трех точек зрения согласны между собой. (Gr. IV. 10.)
(1) Но теперь сторонники тождества думают, что они могут быть спокойны на этот счет и отвергают любые другие отношения, кроме простого тождества между двумя способами появления. Но это означает не что иное, как отрицание действительного различия и объявление кажущегося различия лишь видимостью, причем ложной. Ведь если бы видимость различия имела хоть какую-то истину, ей должна была бы соответствовать действительная дифференциация в метафизической функции; но с признанием такой действительной дифференциации она потеряла бы свою чистую идентичность. Однако ложная видимость двухстороннего явления существует на самом деле и требует объяснения. Это объяснение уже не может лежать в метафизической функции, поскольку в противном случае оно потеряло бы свою чистую идентичность; поэтому его нужно искать вне ее, и вряд ли это можно сделать где-либо еще, кроме как в сознании, постигающем видимость. Простой белый свет (по Гете) идентичной метафизической функции должен быть разделен и замутнен призмой сознания на цвета, которые не имеют соответствующего коррелята в самом свете.
Остается, однако, необъяснимым, откуда берется эта двойная видимость, поскольку сама организация сознательного индивидуального духа есть лишь работа тождественной метафизической функции. Откуда берется преломляющая призма? Либо субъективно-идеальная видимость совпадает с метафизической функцией (трансцендентальный идеализм); тогда остается непонятным, откуда берется ложная видимость объективно-реальной видимости с объективно-реальной причинностью. Или объективно-реальная видимость совпадает с метафизической функцией (материализм); тогда остается непонятным, как механические материальные автоматы приходят к субъективно-идеальной видимости. Или ни один из двух способов появления не совпадает с метафизической функцией, тогда обе непостижимости складываются, и обеим фактически придется отказать в существовании.
Отсюда видно, что без действительной дифференциации метафизической функции, которая лежит до и вне всякой сознательной дифференциации двойного (403) способа появления и имеет это лишь как косвенное следствие, не обойтись. Поэтому важно осознать взаимосвязь между объективно-реальными и субъективно-идеальными функциями психофизического индивида. – Во-первых, показано, что последовательность молекулярных движений в центральном органе, механически вызываемых внешними раздражителями, соответствует последовательности ощущений, и, наоборот, серия сознательных волевых актов соответствует серии молекулярных движений в центральном органе, посредством которых механически вызывается серия материальных изменений вне индивида. Во-вторых, показано, что стадия материальной индивидуальности идет рука об руку со стадией сознательно-духовной индивидуальности; и, в-третьих, что три стадии процесса движения в материальном индивиде: 1. сенсорный стимул, 2. рефлекс, 3. импульс двигательной иннервации соответствуют трем стадиям внутреннего процесса психического индивида: 1. ощущение, 2. мотивация, 3. воление. Эти три отношения соответствия, по-видимому, хорошо описываются выражением «психофизический параллелизм».
В этом выражении есть три момента, которые, как кажется, не совсем соответствуют действительности. Во-первых, слово «параллелизм» для серий стимулов и серий ощущений не должно восприниматься в слишком строгом смысле; ведь их ход подобен ходу чисел к логарифмам, и эти две величины, естественно, не менее параллельны при графическом изображении. Во-вторых, соответствие этих двух рядов для сознания составного индивида определенного уровня не является полным, поскольку все материальные процессы в его центральном органе, протекающие ниже порога стимуляции, не имеют коррелятов в рядах ощущений этого индивидуального сознания. Ряд движений непрерывен, ряд ощущений, напротив, неполный, и параллелизм этих двух рядов, по-видимому, нарушается этими пробелами. В-третьих, параллелизм оказывается неточным во временном распределении
между стимулом, рефлексом, двигательной реакцией, с одной стороны, и ощущением, мотивацией, волевым усилием – с другой; ведь в центральном органе составного индивида эта троица должна повторяться много раз за один и тот же промежуток времени (например, через все задействованные ганглиозные клетки), тогда как сознание индивида представляет себе (404) только ощущение как начальное звено и волевое усилие как конечное звено.
Но эти возражения не должны помешать нам сохранить психофизический параллелизм, если только это слово понимается в более мягком смысле гомологического соответствия изменений интенсивности. Сомнения относительно порога и временного распределения разрешаются тем, что в случае полного параллелизма необходимо учитывать также все индивидуальные сознания всех уровней индивидуальности, которые связаны с материальным индивидом.
Если рассматривать все материальные движения, происходящие в этом материальном индивидууме, то нельзя забывать, что они принадлежат вложенным друг в друга индивидуумам самых разных уровней, частично одновременно, частично по отдельности, напр. вся нервная система, отдельные участки головного и спинного мозга, ганглиозные узлы, ганглиозные клетки, органические члены ганглиозных клеток (ядра, ядерные тела, плазма), конечные органические компоненты ганглиозных клеток (пластидулы), белковые молекулы, относительно прочные атомные группы, химически составляющие их, атомы химических элементов и первобытные атомы. Точно так же, однако, необходимо учитывать и ощущения всех индивидуальных сознаний, которые соответствуют этим материальным индивидуумам разных уровней. Если определенное материальное движение в организме лежит ниже порога для индивидуального сознания определенного уровня, оно, тем не менее, будет лежать выше порога для индивидуальных сознаний более низкого уровня. В целом, таким образом, параллелизм будет непрерывен, только не для каждого отдельного сознания, связанного с данным организмом, а лишь для совокупности всех.
Что касается временного распределения, то и здесь параллелизм четко прослеживается, если принять во внимание внутренние процессы в индивидах низшего порядка. Если, например, сенсорный стимул подается на ганглиозную клетку через проводящее волокно, то в движение приходит только та часть клеточной плазмы, которая первоначально занимает место соединения, и лишь постепенно движение распространяется через нее на другие части клеточной плазмы. Точно так же, однако, индивидуальное ощущение низшего порядка сначала возникает в частице плазмы, расположенной первой (405) от места слияния, и лишь постепенно индивидуальное ощущение низшего порядка появляется в других частицах плазмы по мере распространения движения по всей клетке. Когда первая плазматическая частица передает полученное движение своим соседям, она не просто ведет себя как проводник, в ней уже запускаются рефлекторные двигательные импульсы, возникающие в результате частичной разрядки накопленного в ней химического напряжения. Именно этот двигательный импульс первой частицы плазмы действует на соседние частицы как повышенный сенсорный стимул и, в свою очередь, заставляет их частично сбросить накопленное в них химическое напряжение. Таким образом, внутри первой плазменной частицы происходит не просто ощущение, а вся троица ощущений, мотивации и воли, и то же самое относится к частицам, соседствующим с первой, так что параллелизм для индивидов низшего порядка в клетке можно считать несомненным.



