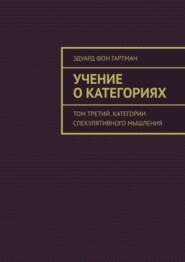
Полная версия:
Учение о категориях. Том третий. Категории спекулятивного мышления
Общий эффект в процессе – это сумма взаимодействий, которые в нем пересекаются. Например, общий эффект дуэли – это сумма ран, нанесенных двумя противниками, стреляющими одновременно. Суммарный эффект гравитации между Солнцем и Землей – это сумма изменений положения, вызванных гравитационным притяжением Земли, и изменений, вызванных гравитационным притяжением Солнца в обоих телах. Общий эффект отталкивания между двумя эфирными телами – это сумма движений, вызванных отталкивающей силой одного и другого тела в обоих телах. Если эффекты одного и того же рода и распределены в одинаковой пропорции между обеими участвующими сторонами, их сумма проявляется как полное слияние эффектов в один. Однако, как правило, отношения не так просты, а эффекты неравнозначны, и поэтому их сумма проявляется не как слияние в единый общий эффект, а явно как сумма двух разных эффектов. Как правило, A + a также является неполной частичной причиной ß, а B + b – a; для того чтобы они превратились в достаточные причины, необходимо добавить еще ряд условий, а именно внешние условия, то есть те, которые лежат вне A и B, в их общей окрестности. При этом, однако, взаимность причин сокращается до взаимности условий, а взаимодействие – до простой (385) взаимной обусловленности; ибо другие внешние условия уже не взаимны, независимо от того, одинаковы они или различны для следствия и взаимодействия. Они, по крайней мере, не взаимны для этого особого случая взаимодействия, даже если каждое из них само по себе может быть связующим звеном в других взаимодействиях или взаимных условиях. Ибо каждое из условий, все еще задействованных в этом особом случае, само по себе прикреплено к относительно постоянной группе индивидов или состоит в такой группе; но в мире нет двух индивидов, между которыми не происходило бы динамических отношений любого рода, даже если они могут быть бесконечно малы при определенных обстоятельствах. Если принять это во внимание, то становится очевидным, что взаимность динамических отношений, а значит, и причинно-следственных связей, является абсолютно общей. Только если не принимать во внимание тот факт, что все действует на все и что каждое получает влияние от каждого, можно найти особый случай, в котором эта взаимность проявляется особенно ярко, поскольку причинность в обоих направлениях имеет заметную силу или форму, которая накладывает свой отпечаток на восприятие. Поэтому в правильном понимании взаимности вполне оправданно говорить, что всякая причинность является членом общей взаимности и что каждое одностороннее направление причинности есть лишь абстрактный участок общей взаимности.
Все материальные эффекты в конечном счете сводятся к атомарным эффектам; однако каждый атом взаимодействует со всеми другими атомами в мире, и его взаимодействие с конкретным другим атомом – это лишь отрывок его взаимодействия со Вселенной. Взаимодействие конкретного атома со всеми другими атомами само по себе является лишь частью универсального взаимодействия. Если я стукну ногой по земле, все неподвижные звезды задрожат, весь мир содрогнется. Различается только степень изменений, произведенных такой причиной в половице моего этажа и в Сириусе, но не их природа. Если два атома притягиваются друг к другу, то динамическое отношение одного к другому сводится к нулю, если ему не отвечает динамическое отношение другого к одному. Каждое из них было бы неэффективным и, следовательно, нереальным, если бы каждое не имело (386) объекта в другом, с которым оно связано. Притягивающий атом A намеревается уменьшить свое расстояние от B, а притягивающий атом B – уменьшить свое расстояние от A; каждое из этих намерений можно сравнить с напряжением, лишенным второй фиксированной точки, и каждое из них находит в другом намерении то, чего ему не хватает. Каждая из них действует только для того, чтобы изменить случайное, а именно место в пространстве, которое занимают атомы, не изменяя индивидов, которые образуют постоянные условия этой причинности.
Каждая односторонняя причинность атома предстает, таким образом, лишь как одна половина или один полюс взаимодействия, составляющего реальную причинность. Объективно реальный мир-процесс есть в этом смысле универсальное взаимодействие всех атомов друг с другом, и его реальность состоит в напряжении, в котором сплетающиеся нити причинности пересекаются друг с другом. Таким образом, причинность в объективно-реальной сфере совпадает с динамическими отношениями, о которых мы уже говорили выше (в разделе A II b и c, с. 146-160). Как ткань реальна только тогда, когда нити прядутся поперек и находят опору для определенного натяжения, так и причинность реальна только как поперечная и поперечная ткань универсального взаимодействия, динамические каузальные нити которого находят опору для своего реального натяжения. Противодействие – это нечто совершенно иное, чем взаимодействие, и его не следует путать с ним. Известный физический закон гласит, что действие и противодействие равны. Например, на правое дно горизонтальной бочки с водой вода давит точно так же, как и на левое, а шесты бочки удерживают оба одинаково придавленных дна вместе. Если, однако, вода вытекает из открытого отверстия в правом днище, давление на правое днище прекращается в этой точке; давление на левое днище становится настолько больше, чем на правое, насколько больше вес столба воды, основание которого равно отверстию и высота которого равна расстоянию уровня воды от центра отверстия. В результате этого дополнительного давления на левое дно бочки тележка, на которой лежит бочка, катится влево, а вода вытекает вправо. Эффект здесь – движение вытекающей воды, (387) а обратный эффект – откат тележки; механический труд в обоих случаях (произведение половины массы на квадрат скорости) должен быть одинаков для обоих. Точно так же отдача ружья должна быть равна удару выпущенной пули; ибо натяжение порохового газа оказывает одинаковое давление назад. пороховые газы оказывают на основание ствола такое же давление назад, как и на пулю вперед. Однако, поскольку масса пули меньше массы винтовки, она достигает большей скорости, чем винтовка, при том же давлении. На дуэли встречный эффект стрельбы складывается из двух отдач пистолетов, так же как взаимодействие складывается из двух ран противников.
Когда солнце притягивает землю, оно тянется к земле так же сильно, как земля тянется к нему; оно движется к земле так же, как земля движется к нему. Разница лишь в том, что ускорение, придаваемое Земле Солнцем, больше, чем ускорение, придаваемое Солнцем Земле, потому что масса Земли намного меньше массы Солнца. Тот факт, что солнце притягивается к земле так же, как земля притягивается к себе, является контрэффектом эффекта в причинности солнца по отношению к земле. То, что земля притягивается к солнцу так же, как солнце притягивается к себе, является контрэффектом в причинности земли по отношению к солнцу. Но тот факт, что и солнце, и земля стремятся сократить расстояние между ними, является взаимным эффектом в причинности между землей и солнцем. Эффект солнца добавляется к контрэффекту земли, чтобы приблизить землю к солнцу, а контрэффект солнца добавляется к эффекту земли, чтобы приблизить солнце к земле. Каждая из односторонних причинно-следственных связей распадается на эффект и контрэффект, и эти расщепленные эффекты снова сливаются во взаимодействии, образуя два эффекта (движения) в двух индивидах, которые вместе составляют общий эффект. Таким образом, взаимодействие и противодействие отнюдь не конкурируют друг с другом; скорее, они дополняют друг друга как анализ и синтез причинно-следственных связей. В первом случае нить причинности расщепляется, распределяясь между связанными индивидами, во втором – расщепленные части вновь соединяются крест-накрест, образуя ткань. Эффект может снова стать причиной нового эффекта, тот, в свою очередь, может стать причиной нового эффекта, и так далее; таким образом возникает (388) причинный ряд, в котором каждое звено связано с предыдущим как эффект и с последующим как причина. Постоянные условия остаются и образуют, так сказать, непрерывную нить, на которую нанизываются разнообразные жемчужины переменных условий. На этой нити не было бы видно разнообразия, а значит, и различия между причиной и следствием, если бы на ней не сидели разноцветные бусинки; но бусинки не могли бы образовать пестрый ряд, если бы отсутствовала нить, дающая им опору и направление. Постоянство определенного состояния, проходящего через ряд изменений, вполне может быть лишь относительным, как, например, состояние индивида от его появления до гибели. Тогда такое относительно постоянное состояние само является изменчивым по отношению к состоянию, предшествующему его появлению и последующему угасанию. Возникновение и распад относительно постоянных индивидов и смена их поколений сами по себе являются серией переменных состояний, нанизанных на более крупные нити постоянных состояний. Наконец, весь мировой процесс – это ряд переменных условий, которые нанизываются на постоянное условие продолжения поднятой воли или сохранения власти.
Теперь, если a, b, c, d, e представляют собой такой причинный ряд, то a можно назвать косвенной причиной e, поскольку причинная связь опосредована b, c и d. Если сохранение постоянных условий в течение времени, проходящего от a до e, может быть определено с уверенностью, то косвенная причинность e со стороны a столь же определенна и надежна, как и прямая причинность со стороны d. Теперь, если b, c и d – неизвестные причинные посредники, то наблюдения a достаточно, чтобы указать, что скоро следует ожидать появления e. Аналогично, если b, c и d – известные причинные посредники, но не поддающиеся влиянию человеческого произвола, то преднамеренное вызывание a обеспечит наступление e. В таких случаях интерес сосредоточен на причинной связи между a и e, без учета промежуточных звеньев; a без лишних слов называют причиной e, хотя оно и не является его непосредственной причиной.
Интерес человека к причинному ряду проявляется в двух отношениях: во-первых, чтобы вывести неизбежность наступления (389) будущих событий из их ощутимых косвенных причин и вовремя скорректировать свое поведение, а во-вторых, чтобы иметь возможность повлиять на ход причинного ряда, насколько это возможно, вмешавшись в нужный момент таким образом, чтобы конечные результаты соответствовали желаниям человека. Однако и прогнозирование, и влияние на причинный ряд придут слишком поздно, если человек захочет ограничиться наблюдением и влиянием на непосредственные причины. Только своевременное осознание будущего позволяет принять соответствующие меры, чтобы либо предотвратить событие, либо защитить себя от ущерба, вызванного неизбежностью. По этой причине косвенные причины обычно более важны с практической точки зрения, чем прямые. Мудрость и глупость, заслуга и вина поступка обычно связаны с довольно косвенными причинами успеха. Поэтому для эвдемоники, этики и отправления правосудия прямые причины, как правило, незначительны и имеют лишь косвенное значение. Но даже исторические науки, поскольку они ставят во главу угла признание влияния человеческих действий на ход событий, вынуждены придерживаться косвенных причин; то же самое касается и естественных наук, поскольку они намерены работать над технологией. Причинные ряды ясно показывают, что причинность временна. Причинность может казаться вневременной только тем, кто рассматривает постоянные условия как полную причину и упускает из виду необходимость переменных условий для причинности. Если, например, вещи или лица называются причинами, то эти причины продолжают существовать одновременно со своими следствиями. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что вещи или лица являются причинами определенных следствий только в той мере, в какой они выполняют определенные действия, и как таковые они существуют не одновременно со следствием, а раньше его. Доказательство этого вытекает именно из рассмотрения причинно-следственных рядов. Чем длиннее причинный ряд, тем в среднем больше времени проходит между первым и последним звеном; но косвенная причина никогда не бывает позже следствия. При сравнении прямой причины и следствия тоже нет случая, чтобы причина была заметно позже следствия; но часто они настолько близки друг к другу по времени, (390) что уже невозможно определить, является ли их смещение во времени друг от друга положительным, отрицательным или нулевым. Это сомнение устраняется с помощью причинного ряда. Если бы временной сдвиг был нулевым, то суммирование сколь угодно большого числа связей не могло бы привести к изменению одновременности, то есть косвенная причина также должна была бы быть одновременной со следствием. Если бы временное смещение было незаметно малым, но отрицательным, оно должно было бы складываться в заметное отрицательное смещение в достаточно длинном причинном ряду, т. е. косвенное следствие должно было бы быть раньше причины. Только если незаметно малое временное смещение будет положительным, оно может составить в причинном ряду заметное положительное смещение, что позволит признать конечный эффект более поздним, чем причина.
Таким образом, ясно, что непосредственная причина не является ни более поздней, чем следствие, ни одновременной с ним, но более ранней, чем оно. Теперь, однако, возникает вопрос о том, как более детально представить себе это отношение времени. Рассмотрение постоянных условий не может дать нам никакой информации об этом, потому что они сохраняются одинаково во времени до причины, во время причины, во время эффекта и после эффекта. Мы должны придерживаться переменных условий, которые одни показывают временные изменения. Если мы назовем изменение, которое образует непосредственную причину U, изменение, которое образует следствие W, причинность, существующую между ними k, то возможны следующие случаи: 1. U, W и k – все три темпорально пунктуальны, то есть без какого-либо временного расширения; 2. U и W темпорально пунктуальны, но A: темпорально расширены; 3. U и W темпорально расширены, но k темпорально без расширения; 4. U, W и k темпорально расширены. В первом случае мы имеем три точки, которые либо разделены пустыми временными промежутками, либо совпадают в одну, то есть являются либо бесконтактными дискретными точками, либо одновременными без временного расширения. Этот случай исключается, так как приводит обратно к одновременности. – Во втором случае U и W разделены пустым временем, и причинность витает между ними как связь, которая начинается только с прекращением U и обрывается с наступлением W. Во втором случае U и W разделены пустым временем. Однако мы не можем думать ни об изменении без временного расширения, ни об отношениях, которые плавают между временно несуществующими вещами в пустом времени. – В третьем случае U и W следует представить пространственно как два отрезка (391) прямой линии, которые пересекаются в граничной точке; только эта граничная точка содержит каузальность. Тогда все временное протяжение U течет совершенно без последствий до того момента, когда оно перестает быть; в этот момент наступает временной эффект W, который теперь течет в свою очередь, не будучи связанным с причиной более чем в одной начальной точке. Однако если бы мы хотели представить каждую точку U как вневременно связанную с соответствующей точкой W, то два расстояния U и W должны были бы накладываться на все соответствующие точки, т. е. снова быть абсолютно одновременными. – В четвертом случае можно было бы сначала представить U, k и W как три расстояния, расположенные на прямой линии, так что U и k, k и W имеют общую граничную точку; но при этом возникли бы трудности второго и третьего случаев. С одной стороны, мы имели бы два темпорально протяженных изменения, причинно связанных друг с другом лишь своими конечными точками, а с другой – отношение, плавающее в пустом времени, которое есть только тогда, когда референтов нет. Поэтому ничего не остается, как наложить U и W таким образом, чтобы каждая точка одной из них оказалась в причинной связи с каждой точкой другой линии, но в то же время сместить их в этом наложении так, чтобы это временное смещение было равно длительности k.
После всего сказанного можно рассматривать только последнюю точку зрения. Длительность k выражает только временное смещение между двумя гомологичными точками U и W, то есть также временное смещение всего W относительно всего U. Начало W происходит на k позже начала U; конец U происходит на k раньше конца W. U и W совпадают за исключением двух отрезков длины k, с которыми они пересекаются в начале и в конце; но они не совпадают в гомологичных точках. Если представить, что и U, и W разделены на ряд отрезков длины A, то каждый отрезок U причинно связан не с тем отрезком, который покрывает его во времени, а со следующим. Теперь становится очевидным, что мы выбрали расстояния U и W только произвольно, потому что в них эффекты, которые складываются, достигли величины, ощутимой для нашего наблюдения при интенсивном и (392) экстенсивном взгляде, но что на самом деле мы должны рассматривать их как соединения, которые указывают нам назад к причинности в ее элементарных компонентах. Эффект разрастается с продолжением действия причины именно потому, что каждый мельчайший частичный эффект, будучи установленным, становится сопутствующим условием причинной детерминации следующего частичного эффекта. Поэтому только притупленность наших чувств и, наконец, нашего чувства времени приводит к тому, что мы цепляемся за целые серии вещей и причинно связываем их с целыми сериями следствий. Мы не в состоянии проникнуть в тонкую структуру причинного процесса с помощью нашего восприятия; но с помощью нашего мышления мы должны, по крайней мере, попытаться. Сначала нам должна помочь концепция дифференциала. Сечения U и W должны быть настолько малы, чтобы они стали не только незаметными для наших органов чувств, но и исчезающе малыми для нашего мышления. Также они станут исчезающе малыми для нашего мышления. Таким образом, с одной стороны, сохраняется временной приоритет причины над следствием, а с другой – минимизируется проекция причины и следствия друг на друга. Но этот способ представления, как и все операции с бесконечно малым, – лишь неадекватная замена нашего непонимания непрерывно текучего, метод приближения, который никогда не достигает своей цели и тщетно пытается собрать непрерывное из дискретного.
Как бы тесно мы ни прокладывали временные сечения через поток событий и причинности, они всегда остаются дискретными. Мы не можем выйти за рамки альтернативы, согласно которой отрезок U либо соприкасается с самим собой только в один момент времени, либо заново делится на два отрезка. В этом случае мы не можем выйти за рамки альтернативы, согласно которой отрезок U либо соприкасается с отрезком самого себя только в один момент времени, либо заново делится на два отрезка, чтобы обеспечить соприкосновение во многих точках. Так что и здесь мы должны пройти путь через бесконечно малые второго, третьего и т. д. порядка, не достигая цели. Не достигая цели, мы должны пройти путь через бесконечно малый второй, третий и т. д. порядок. Но в этом кроется Это не противоречивая организация нашего мышления, а лишь попытка преодолеть неадекватность дискретного дискурсивного мышления путем увеличения дискретности, которая может быть преодолена только путем приобретения интеллектуального взгляда 1). Поэтому это усилие тщетно, поскольку оно не достигает своей реальной цели (393), но не тщетно, поскольку оно показывает нам причину этой неудачи – несоизмеримость дискретного и непрерывного Несоизмеримость дискретного и непрерывного, ограничение нашего сознательного мышления первым и вторым как формой причинного события. Если в восприятии времени и пространства мы находимся в удачном счастливое положение, когда у нас есть иллюзия непрерывности 2), то в случае с причинностью мы также лишены этой иллюзии, поскольку причинность не входит в чувственное восприятие как таковое, а остается интеллектуальным ингредиентом.
_____________________
1) Vgl. oben S. 82—86, 158 – 160, 267, 269—270. 274—275.
2) Vgl. oben S. 84, 116.
*************************************************
Итак, если мы долго и тщетно пытались проследить поток, причинность, расчленяя события на бесконечно узкие сечения все более высокого порядка, то в конце концов мы отказываемся от этой попытки и говорим себе, что объективно реальная причинность, как абсолютно непрерывный поток, неизбежно должна насмехаться над всеми попытками постичь ее с помощью все большей дискретности. Мы должны заметить, что каждый временной срез события дает картину, которая относится как косвенное следствие к каждому предыдущему срезу и как косвенная причина к каждому последующему срезу. Чем дальше друг от друга находятся срезы, тем более опосредованной является их причинная связь друг с другом; чем ближе друг к другу они находятся, тем короче опосредование, которое их разделяет. Но мы никогда не сможем расположить два дискретных сечения так близко друг к другу, чтобы между ними нельзя было поместить другие; таким образом, мы никогда не сможем утверждать, что любой вневременной статус praesens является, в самом строгом смысле, прямым следствием или причиной другого статуса praeteritus или futurus.
Вся известная нам причинность опосредована, а непосредственная столь же непостижима для нашего дискурсивного мышления, как и для наших чувств, поскольку она присуща непрерывности изменений. Если мы возьмем вневременной срез события, то получим простую абстракцию, лишенную реальности, поскольку вся реальность основана на непрерывной причинности; если же, напротив, мы поднимем временной отрезок события, то перед нами окажется бесконечный комплекс причин и следствий в их последовательности, которые мы игнорируем, чтобы представить их себе только в их отношении к аналогичным, либо как следствие, либо как причину (394). Каждый срез процесса, как вневременной, является лишь абстрактной паутиной мысли, которая обретает жизнь, полноту и реальность только тогда, когда она «берется в причинно-следственной связи назад и вперед, то есть как следствие прошлого и причина будущего». Реальность состоит из причинно-следственных связей. Чем ближе друг к другу расположены срезы, тем меньше изменение, лежащее между ними; но изменение все равно остается, как бы близко друг к другу ни были сдвинуты срезы. Если изменение полностью прекращается, то у вас уже не два разреза, а один, который вы ошибочно принимаете за два. Таким образом, любое совпадение причины и следствия, будь то на конечных или бесконечно малых расстояниях, исключается. В каждой точке двойное отношение взаимопроникает в себя назад как следствие и вперед как причина; в этом взаимопроникновении заключается реальность мирового процесса, а в постоянном временном продвижении этой точки взаимопроникновения – непрерывный поток причинности, посредством которого определяется непрерывное изменение.
Можно было бы склониться к мысли, что даже во вневременном срезе мирового процесса реальность может быть дана причинностью, а именно в напряжении единого противодействия и взаимодействия между всеми атомами. Но такое распространение причинности в трех измерениях пространства без помощи времени – ложная видимость. Ибо взаимное напряжение в динамических отношениях имеет смысл только как тенденция к движению, то есть как стремление изменить пространственные отношения связанных сторон. Но поскольку движение может происходить только во времени, то и тенденция к движению также может быть понята только во времени. Наше дискурсивное мышление, которое должно перевести непрерывное в дискретное, чтобы понять его, выражает это, представляя nisus или conatus как дифференциал положительного или отрицательного ускорения. Взаимные динамические отношения во временном срезе обусловлены не только пространственными отношениями данного момента, но и тем, как они возникают из отношений предшествующего момента, и их содержание исчерпывается тем, как эти отношения трансформируются в отношения следующего момента. Например, точка на периферии гироскопа имеет совершенно разные динамические (395) отношения с Землей в зависимости от того, находится ли она в этом положении в состоянии покоя или достигла его путем более медленного или более быстрого вращения. Содержание его динамического отношения к Земле в данный момент не может быть выражено иначе, чем через сравнение нынешних пространственных отношений с теми, которые возникнут у него в следующий момент. Таким образом, как назад, так и вперед – это временной поток изменений, через который динамические отношения данного момента впервые получают определенность своего содержания. Извлеченные из этого потока, они были бы лишены всякого содержания; их тотальность не показывала бы тогда ничего, кроме пустой воли мира или неопределенной интенсивности.
С другой стороны, конечно, простой временной поток изменений не мог бы быть причинностью, если бы он не обладал перпендикулярными времени измерениями, посредством которых интенсивность сначала разделяется на большинство частичных интенсивностей. Ибо только между большинством возможны динамические отношения, которые проявляются как причинность от одного к другому, а от одного к другому – как противодействие и взаимодействие (Gr. IV. 89.). Причинность вполне может существовать между частичными функциями индивида; но в случае с индивидом, не имеющим отношения к другим индивидам и обладающим только одной, неразделенной функцией, причинность была бы уже невозможна. Разделение функции в рамках одного индивида на несколько частичных функций, которые сталкиваются и взаимодействуют друг с другом, однако, всегда предполагает principium individua- tionis, то есть пространственность, а также временность (ср. выше с. 163-165), будь то в составном индивиде внешности причинно взаимодействующие частичные функции основаны на пространственно разделенных компонентах (материальных индивидах низшего порядка), будь то в абсолютном индивиде сущности общая деятельность, разделенная пространственным разделением, производит взаимодействующие индивиды в первую очередь через столкновение их частичных функций. Поэтому если, рассматривая выше отношение причинности к пространству, мы пришли к причинности от одного к другому, к взаимодействию и противодействию, то отношение причинности ко времени не отрицалось, а лишь условно оставалось вне уравнения. Точно так же, когда мы рассматривали отношение причинности ко времени, ее отношение к пространству не отрицалось, а скорее уже молчаливо предполагалось. Раздельное рассмотрение этих двух отношений было произвольной абстракцией, возникшей лишь из-за неспособности дискурсивной мысли исследовать несколько отношений одновременно. Теперь мы увидели, что отношение к пространству и отношение ко времени одинаково необходимы для причинности и что она перестает быть причинностью, как только одно из этих двух отношений отрывается от нее. Без трансцендентной пространственности и временности нет трансцендентной причинности (т. е. нет причинности вообще, поскольку нет и не может быть никакой другой, кроме трансцендентной причинности). Но без трансцендентной причинности также нет трансцендентной пространственности и временности! Ибо пространственность, как мы видели выше, сначала устанавливается динамическими отношениями, которые мы теперь признали причинностью, а временность, по крайней мере, получает свою определенность только через причинность, которая определяет как временные Prius и Posterius, так и скорость временных изменений в реальных процессах. (Gr. IV. 36.)



