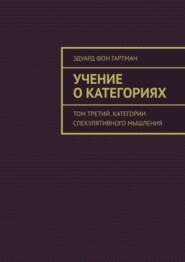
Полная версия:
Учение о категориях. Том третий. Категории спекулятивного мышления
Восприятие a не является причиной восприятия b; ведь a может отсутствовать, и при этом b может войти в сознание, но b может также отсутствовать, даже если a вошло в сознание; действительно, и a, и b могут отсутствовать, и при этом можно говорить о том, что они имели место как причинный процесс, который впоследствии распознается сознанием и переносится на то время, когда a и b могли войти в сознание. Если мы назовем бессознательное реальное условие возникновения a (возможность восприятия или возможное восприятие) a, а b – ß, то a является причиной ß, независимо от того, возникают ли a и b в связи с a и ß или нет. Если условие a дополняется другими необходимыми условиями (такими, как присутствие наблюдателя, освещенность сцены, открытость глаз, бдительное и беспристрастное состояние ума и т. д.), чтобы стать достаточной причиной, тогда оно имеет восприятие a в качестве эффекта наряду с эффектом ß; точно так же ß имеет эффект b. Таким образом, последовательность a и b в сознании является имманентной сопутствующей последовательностью a и ß вне сознания. Но только a ß, a a и ß b являются тремя каузальными процессами, тогда как a b не является ни одним из них, а лишь отражает каузальный процесс a ß как субъективный представитель сознания. Но три каузальных процесса a ß, a a и ß b – это (374) трансцендентальная причинность, а единственная имманентная последовательность a b не является каузальным процессом. Эти положения не могут быть опровергнуты и трансцендентальным идеализмом, если он отличает только сознательное реальное восприятие от бессознательной возможности (реального условия) восприятия. Их нельзя опровергнуть, даже если интерпретировать а и ß по-разному, как это делаю я; в любом случае предполагаемая имманентная причинность, таким образом, сводится к простой видимости, отражению, проекции или побочному эффекту трансцендентной причинности.
Но именно так инстинктивно понимаются отношения между последовательными восприятиями. Ибо имманентные объекты восприятия a и b инстинктивно и непроизвольно трансцендентно связаны с трансцендентными вещами в себе a и ß. В той мере, в какой категория причинности применяется теперь к последовательности a b, она также автоматически относится к последовательности a ß вещей в себе, для которых a b служит лишь субъективным представителем воображения. Ни одному здравомыслящему, т. е. философски непредвзятому, человеку не приходит в голову соотнести категорию причинности со своими восприятиями; но он всегда думает только о последовательности процессов, независимых от его восприятия, т. е. о процессах между вещами в себе, которые, однако, при благоприятных обстоятельствах воздействуют на его органы чувств.
Будучи наивным реалистом, человек вообще не задумывается о различии между a и a, ß и b, поскольку это не принесло бы ему практической пользы; он не осознает разницы между ними, но полагает, что в a и b он непосредственно охватывает a и ß своим сознанием. Поэтому он также не знает, что a и ß являются объективно реальными условиями a и b и находятся с ними в причинной связи; точно так же он не знает, что он уже бессознательно применил категорию причинности к a и b, трансцендентно соотнеся ее с a и ß, или что за a и b он подставил гипотетические a и ß как трансцендентные вещи сами по себе. Это гипотетическое допущение трансцендентных a и ß логически возможно и логически оправдано только при гипотетическом допущении трансцендентных причин a и b, которые сначала должны быть только неполными причинами, поскольку они дополняются условиями отчасти (573) постоянного, отчасти случайного и случайного характера, чтобы стать полными и достаточными причинами. Трансцендентальный идеалист, не признающий различия между возможным и действительным восприятием в том смысле, который объяснялся выше, также не знает о различии между a и a, b и ß, но по причине, противоположной наивному реалисту.
По причине, противоположной наивному реалисту. Если последний верит, что он может постичь и охватить своим сознанием a в a, b в ß и последовательность a ß в a b непосредственно, то первый верит, что он может поставить свои a и b на место a и ß, т. е. что он может овеществить свои субъективно-идеальные явления, овеществить свои идеи, сделать содержание своего сознания независимым от формы сознания и гипостазировать его. Поэтому оба они должны отрицать реальное причинное отношение между a и a, а также идеальное причинное отношение a к a, поскольку они отрицают всякое различие, всякую двойственность a и a. Но наивный реалист, поскольку для него важно только а, сразу же признает причинно-следственную связь между ними, как только направит свое размышление на различие между а и а; трансцендентальный идеалист, напротив, считает, что он критически преодолел это самое различие, судорожно цепляясь за а и закрывая свои духовные глаза против а.
При этом он склонен ссылаться на то, что наивный реалист в своем докритическом сознании также ничего не знает об этом различии. Это совершенно верно, но это не доказывает, что осознание этого различия, которое сразу же пробуждается при критической рефлексии, теперь может быть снова подавлено. Точно так же тот факт, что отсутствие осознания этого различия должно сопровождаться отсутствием осознания причинно-следственной связи, не доказывает, что трансцендентальное отношение а к а не возникает также через бессознательное функционирование категории причинности, когда оба ошибочно отождествляются. Ведь тот факт, что искомое a ошибочно принимается наивным реалистом за данное a или что a невольно переосмысливается трансцендентальным идеалистом как явно отрицаемое a, показывает, что оба они бессознательно оперируют трансцендентальным a, то есть сначала они должны были бессознательно позиционировать его, что, опять же, они не могут сделать иначе, чем на основе бессознательного применения категории причинности.
(376) Трансцендентальный реалист, который ясно осознает трансцендентальное отношение своих имманентных концептуальных образований к трансцендентальным вещам, независимым от сознания, и четко различает их, также хорошо знает, что логическое обоснование этого трансцендентального отношения он может вывести только из применения категории причинности. Трансцендентальное отношение объекта восприятия к вещи в себе – это психологическая иллюзия, если только трансцендентальная причинность восприятия не является фактом; но она не могла бы возникнуть, даже если бы подсознательная синтетическая интеллектуальная функция до всякой рефлексии идейно не учитывала этот факт. Это происходит в том смысле, что она добавляет к восприятию отношение к гипотетической трансцендентной причине, и это бессознательное добавление предстает перед сознанием именно как трансцендентная реальность объекта восприятия, то есть как трансцендентное отношение имманентного объекта восприятия к трансцендентному реальному (вещи-в-себе), благодаря которому объект впервые предстает как вещь. В этом также действует бессознательная синтетическая категориальная функция, что сознание обычно переходит от последовательности a b, которая трансцендентно связана с a ß, к причинной связи a ß. Привычка, какой бы долгой она ни была, никогда не привела бы к переходу от идеи временной последовательности к идее необходимой причинной связи, если бы инстинкт понимания не побуждал нас сделать этот шаг, который при любых обстоятельствах остается скачком. Но этот инстинкт как раз и является эффективностью бессознательной категориальной функции причинности, которая ведет к идеальной реконструкции реальных каузальных отношений для сознания так же, как бессознательная категориальная функция пространственности ведет к одному из реальных пространственных отношений. Мысленный ингредиент причинности к простому следствию a ß – это точка, в которой бессознательное применение категории с ее результатом впервые попадает в сознание как причинность, тогда как ее гипотетическое добавление a к a не попадает в сознание как причинность, а первоначально только как трансцендентальное отношение a к трансцендентально реальному или как трансцендентальная реальность. Только после того, как сознательное понятие причинной связи стало привычным в последовательности a и ß, рефлексия может прийти к преодолению наивного (377) реализма и его отождествления a и a, ß и b, а также понять эту связь как причинную связь между двумя различными вещами.
Таким образом, причинность в субъективно-идеальной сфере всегда является для сознания лишь репрезентативным воспроизведением объективно-реальных причинно-следственных отношений. Бессознательная категориальная функция играет в этой реконструкции направляющую, дополняющую, добавляющую и формирующую роль; но она не порождает никаких реальных новых каузальных процессов, а лишь конкретные представления, в которые это отношение вошло как идеальный компонент и которые таким образом становятся для сознания более верными репрезентациями реальности, чем они могли бы быть без этого компонента. Имманентная причинность, имеющая самостоятельное значение, ни в коем случае не возникает. (Gr. I. 91.) (Gr. II. 3.)
b. Причинность в объективно-реальной сфере.
Причина не является единичной вещью. Если причиной называется нечто отдельное, то имеется в виду лишь неполная причина, которая требует других дополнительных условий, чтобы стать полной причиной. Только полная причина сама по себе достаточна для возникновения следствия и поэтому является достаточной причиной.
Слово «первопричина» указывает на вещь или единичную вещь, то есть на постоянную неполную причину; но оно неявно предполагает, что эта постоянная вещь развивает изменяющуюся деятельность или изменяющиеся свойства и что только через одно из этих изменений она приводит к следствию. Если бы причина была чем-то абсолютно постоянным, то и следствие должно было бы быть абсолютно постоянным, то есть вечным. Но если следствие наступает только в определенное время и тем самым представляет собой изменение по сравнению с непосредственно предшествующим состоянием, то и вещь должна стать причиной только потому, что в ней произошло изменение. Таким образом, изменение является условием эффекта. Но изменение не было бы изменением, если бы оно не происходило в чем-то относительно постоянном; существование такой постоянной величины, следовательно, также является условием следствия. Таким образом, причина состоит из постоянных и переменных условий. К первым относятся ин-дивид^Z^дуалы, взаимодействующие в процессе от абсолюта до первоатомов, ко вторым – деятельность, разворачиваемая ими в процессе. К первым относится также сила, которая остается неизменной, несмотря на все преобразования, которые она претерпевает в соответствии с законом сохранения силы; ко вторым – все преобразования, которые она претерпевает и благодаря которым принимает самые разнообразные формы проявления.
Если индивид своим существованием обеспечивает постоянное условие эффекта, а своей деятельностью – переменное условие, то он называется в высшем смысле причиной, а если он сознательная личность и его деятельность преднамеренна, то инициатором, независимо от того, должны ли были присутствовать другие внешние условия для того, чтобы эти два условия превратились в полную причину. Изменение, которое добавляется в качестве последнего недостающего условия, чтобы завершить в достаточном смысле давно завершенный комплекс условий, называется поводом или побуждением; если речь идет о сознательных волевых тенденциях, которые находят первую долгожданную возможность для реализации благодаря представившемуся случаю, добавляемое изменение называется случайной причиной; если, с другой стороны, речь идет о силах, ожидающих разрядки, оно называется пусковым механизмом. Если мы обращаем особое внимание на поводы, причины возможности и триггеры и называем их причинами, то очевидна диспропорция между малостью причин и величием следствий; но если мы считаем, что эти так называемые причины – лишь отдельные условия, дополняющие весь комплекс имеющихся условий, то эта кажущаяся диспропорция исчезает. Даже физиологический стимул – это лишь механическое срабатывание накопленных сил, как давление пальца на кнопку гальванического провода, которое заставляет сотни мин взрываться одновременно.
Несмотря на их различие как вещей и действий, разные причины, тем не менее, могут быть каузально эквивалентными; в идентичных причинах, напротив, все должно быть одинаковым, включая их каузальную валентность. Разные причины могут приводить к одному и тому же результату посредством различных преобразований; одинаковые же причины могут приводить к различным преобразованиям и, следовательно, к различным следствиям только благодаря различиям в сопутствующих обстоятельствах. Различие причин может (379) быть осложнено различием сопутствующих обстоятельств; если эти две причины рассматриваются вместе как полные причины, они также могут быть различными и, тем не менее, иметь одинаковые последствия. С другой стороны, одни и те же причины, взятые вместе с равными обстоятельствами, должны быть названы равными полными причинами, а взятые вместе с неравными сопутствующими обстоятельствами – неравными полными причинами; поэтому в последнем случае неравенство их следствий не отменяет постулат «равные причины – равные следствия», а скорее подтверждает его, поскольку он применим только к полным, достаточным причинам, но не к неполным. Условие, которое может быть заменено другим, причинно эквивалентным, является взаимозаменяемым с последним без изменения следствия; условие, для которого нет причинно эквивалентной замены, является необходимым условием или conditio sine qua non для данного конкретного следствия.
Непременное условие, несомненно, является также существенным условием. Поскольку несколько различных условий могут заменять друг друга без изменения эффекта, тем не менее необходимым условием для реализации эффекта является любое из этих взаимозаменяемых условий, независимо от того, какое из них дано. Как правило, изменение того или иного условия сопровождается изменением эффекта. В зависимости от того, считается ли это изменение эффекта существенным или несущественным в указанном выше смысле (с. 242-243), условие также должно считаться существенным или несущественным. Ни одно из существенных условий не может отсутствовать или существенно изменяться, если необходимо реализовать существенный характер эффекта. С другой стороны, несущественные условия, отсутствие которых не приводит к существенному изменению эффекта, не являются частью причины сущности эффекта. Поскольку нас интересует не всеобщая определенность эффекта, а только его существенные черты, достаточная причина также состоит только из существенных условий. Но если речь идет о достаточной причине данного эффекта со всеми его мельчайшими деталями, то различие между существенными и несущественными условиями исчезает, и достаточная причина состоит из суммы условий в целом. В разных случаях одного и того же эффекта комплекс условий может быть составлен по-разному; но в каждом отдельном случае достаточная причина состоит только из суммы всех условий, как существенных, так и несущественных. Отсюда очевидно, что мы не можем назвать достаточную причину в точном смысле этого слова или полный комплекс условий для любого эффекта, потому что большая часть условий всегда находится за пределами нашего знания. Вместо полной причины мы довольствуемся некоторыми существенными условиями, которые сами по себе достаточны для того, чтобы привести к тому, что для нас важно в следствии. Мы можем тем более довольствоваться признанием существенных условий, что большая группа несущественных условий, например, состояние мира за пределами нашей планетарной системы, настолько мало изменяется в течение нашего времени наблюдения, что изменения, вызванные их влиянием на эффект, ускользают от нашего наблюдения. Мы можем пренебречь относительно постоянными условиями такого рода, поскольку нас гораздо больше интересуют изменяющиеся условия. С другой стороны, переменные условия тем более важны для нас, чем сильнее изменяется эффект при столь же сильном изменении условий. – Поэтому то, что мы считаем знанием причин в объективно-реальной сфере, на самом деле является знанием только тех условий, которые оказывают количественно выдающееся влияние на неудачу следствия. Мы распознаем не полный и законченный поток причинности, а особые течения и завихрения в этом общем потоке. Мы видим красочный узор, скользящий мимо нас, но можем распознать структурную связь, только если проследим за отдельными нитями в пестрой ткани. Эти отдельные нити – причинно-следственные связи между условием и обусловленным. Только на основе таких абстрактных размышлений мы можем обобщить зависимость изменения величины эффекта от изменения величины условия или нескольких комбинированных условий в математической форме функции и представить ее в виде причинного закона. Все так называемые законы природы основаны на самых крайних абстракциях от реальности, то есть на таких простых предпосылках, которые никогда не даются в действительности. Так, например, закон тяготения выражает изменение притягательной силы при изменении условий (381) расстояния и размера масс; но тем самым предполагается, что притягательные силы всех атомов должны мыслиться как сосредоточенные в центрах тяжести, что неверно в случае конечного отношения диаметров масс к их расстояниям. Не удалось даже математически определить движения, обусловленные притяжением, для трех тел, не говоря уже о неизмеримом их количестве, как во Вселенной. Везде приходится прибегать к искусственно упрощенным предположениям и довольствоваться лишь приблизительным пониманием с несколько более сложными допущениями. Это относится не только к математической обработке механических задач, но в еще большей степени к тем грубым приближениям, которыми довольствуется практическое мышление вместо математического расчета. (Гр. IV. 40. Гр. IV. 44. Гр. II. 53.)
Подобно тому, как мы выделяем отдельные условия из достаточной причины, мы также выделяем отдельные лучи следствия из полного общего эффекта причины. Подобно тому как мы довольствуемся признанием наиболее важных и существенных для нас условий следствия, мы также ограничиваемся рассмотрением наиболее важных и существенных для нас следствий причины. Каждая причина имеет бесчисленное множество следствий одновременно; но только одно из них, или, самое большее, несколько, рассматривается нами в каждом случае как главное следствие, а остальные игнорируются как побочные. Только поверхностный взгляд на мир может не признать, что каждое изменение положения влечет за собой неисчислимое количество побочных эффектов. Как правило, они вообще ускользают от внимания, особенно если они незаметно малы или происходят в отдаленных уголках Вселенной; часто их замечают, но отбрасывают в сторону как безразличные и несущественные побочные эффекты основного воздействия; иногда, однако, они навязывают себя очень неприятным образом, когда мешают человеческим целям.
В той мере, в какой основной эффект является целевым, побочные эффекты рассматриваются как случайные, конечно, не в смысле причинно-случайные, а в смысле окончательно-случайные; но в той мере, в какой они либо мешают основному намерению, либо вредят другим человеческим интересам, они называются мешающими побочными эффектами. Все (382) следствия, исходящие одновременно от одной причины, называются согласованными следствиями. Только совокупность согласованных следствий составляет полный эффект или полное следствие, так же как только совокупность условий составляет полную причину. Для человеческой деятельности чрезвычайно важно не пренебрегать побочными эффектами, поскольку в противном случае, несмотря на достижение главного эффекта, причина может нанести больше вреда, чем способствовать достижению цели человека. Цель оправдывает средства только в том случае, если причина средств не влечет за собой побочных эффектов, которые представляются морально недопустимыми. Эти непреднамеренные побочные эффекты аналогичны непреднамеренным косвенным эффектам вторичного и третичного характера, которые нередко ухудшают, аннулируют или перевешивают благотворный эффект, достигнутый прямым или первичным эффектом. – Таким образом, все, что мы можем распознать с точки зрения причинно-следственных связей, является лишь фрагментарной причинностью; полная причинность, однако, в то же время универсальна. Полная причина в каждый момент – это состояние мира, данное в нем со всеми его деталями как универсальный комплекс всех условий; полный же эффект – это совокупность всех согласованных эффектов, вытекающих из этого комплекса условий. (Gr. VII. 37.)
Все условия, составляющие объективно реальную причину, являются положительными. «Отрицательное условие» – это сокращение для обозначения того факта, что следствие не наступило бы, если бы присутствовало определенное положительное обстоятельство, которое противодействовало бы причине, но не включает утверждение, что это отрицательное условие способствовало реализации следствия. Например, отсутствие влаги является негативным условием для искрообразования во вращающейся электрической машине; т.е. присутствие влаги препятствует возникновению искр, рассеивая вырабатываемое электричество. Но отсутствие влаги не является условием, способствующим возникновению искры; скорее, эти условия исчерпываются вращающимся стеклянным диском, фрикционным материалом и проводником. В действительности не существует отрицаний в смысле логического отрицания, а только положительные; только сознательное размышление, сравнивая один случай с другими, констатирует, что в одном случае успеха отсутствует обстоятельство, которое в другом случае привело к неудаче, и (383) выражает это в сокращенной форме, помещая отсутствие этого обстоятельства среди условий успеха, но теперь как отрицательное условие. – Эта концепция приобретает значение в случае виновности в бездействии, которое человек должен был бы совершить, чтобы предотвратить события, которые произошли бы, если бы эти действия не были совершены. Если наказуемое бездействие сокращается до «негативного условия» и одновременно неточно описывается как причина, то сочетание обеих неточностей приводит к совершенно неприемлемому понятию бездействия как негативной причины. Однако все положительные условия в совокупности уже являются достаточной причиной в своей полноте, и отрицательному условию или первоначальной причине нет места рядом с ними. Должное поведение должно было вовремя противодействовать достаточной причине или отменить одно из необходимых условий до наступления последнего завершающего условия; пренебрежение долгом в этом отношении является преступным даже без понятия отрицательной причины.
Взаимодействие – это процесс, в котором индивид, группа индивидов или вещь A вызывает изменение ß в вещи B посредством своей деятельности a, и в то же время вещь B вызывает изменение a в вещи A посредством своей деятельности b. Таким образом, A, с одной стороны, активно против B, а с другой – страдает от B. Таким образом, A, с одной стороны, активен по отношению к B, а с другой – страдает от B. A является причиной ß в B посредством своей деятельности a, а a в A является следствием B посредством своей деятельности b. Однако А – это не причина вообще, а только А как субъект деятельности а, А лишь постольку и до тех пор, пока оно развивает деятельность а, т. е. как А + а. Точно так же В – это причина только как В + b. Но как деятельное А не страдает; в своей деятельности а оно только деятельно и не страдает вовсе, точно так же и В в своей деятельности b. A страдает только как носитель происходящего в нем изменения a, которое не имеет непосредственного отношения к a; точно так же и B страдает только в своем изменении ß. Ä, следовательно, не является здесь следствием, тем более a или A + a, а только и исключительно a; точно так же ни B, ни b, ни B + b не являются следствиями, а только ß. Причины – это A + a и B + b, которые ни в коем случае не являются здесь следствиями; следствия – это a и ß, которые ни в коем случае не являются здесь причинами. Переменное состояние a находится вне всякой взаимности с эффектом ß, так же как b находится вне всякой взаимности с a; ибо a – это случайность (384) не a, а A, а ß – не b, а B. Но даже в постоянных состояниях взаимность касается только их изменяющихся случайностей, тогда как сохраняющиеся вещи или индивиды как таковые остаются незатронутыми ею.
Поэтому не может быть и речи об обмене ролями между причинами и следствиями или даже об их тождестве, как утверждает Гегель. Есть только два пересекающихся причинных отношения; следствие одного из них является случайным изменением причины другого, и наоборот. Взаимодействие, понимаемое таким образом, неоспоримо, но это и не новая категория, а лишь более конкретный пример или особый случай причинности. Поэтому Кант, понимавший взаимное действие только таким же образом, был неправ, отводя ему в своем триадическом схематизме место, принадлежащее телеологии, о которой он забыл.



