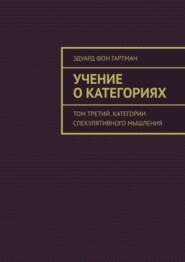
Полная версия:
Учение о категориях. Том третий. Категории спекулятивного мышления
Теперь двигательный импульс, который первая плазменная частица передает своим соседям, сильнее, чем тот, который она получает от конца питающего волокна, и то же самое относится к последующим плазменным частицам. Поэтому развитие силы увеличивается в той мере, в какой в процесс вовлекается больше частиц плазмы; ведь хотя каждая частица поглощает часть механической энергии, передаваемой ей, она добавляет к остальной передаваемой энергии больше, чем поглотила, за счет своего собственного запаса силы. Таким образом, двигательный импульс, который последняя частица плазмы, находящаяся рядом с волокном распространения, передает концу этого волокна, представляет собой накопленный эффект, который, с учетом потери энергии в результате поглощения, складывается из индивидуальных эффектов всех частиц плазмы. Энергия двигательного импульса проявляет крещендо вплоть до участия всех плазменных частиц клетки, подобно тому как напряжение пороховых газов в трубке возрастает вплоть до сгорания последнего воспламенившегося порохового кома. С другой стороны, это означает, что энергия стимула также возрастает; ведь то, что является двигательным импульсом для предпоследней частицы плазмы, является сенсорным стимулом для последней.
В той же пропорции индивидуальное ощущение единой клетки-сознания, которая состоит (406) из связанных между собой частичных ощущений, постепенно внутренне растет. Параллелизм возникает, однако, только тогда, когда общее ощущение пересекает порог, что происходит раньше при более сильном стимуле, позже при более слабом и совсем не происходит при еще более слабом. Однако стимул вполне может быть достаточно сильным, чтобы поднять ощущение выше порога, и все же недостаточно сильным, чтобы поднять мотивационную волю, обусловленную им, выше порога сознания. Как правило, двигательный импульс становится осознанным как волевое усилие только в том случае, если он либо достаточно силен, чтобы преодолеть не только сопротивление проводимости двигательных нервов, но и инерцию мышечных волокон и вызвать значительное сокращение волевых мышц, либо если этому препятствуют тормозные импульсы из других центров, которые переходят порог осознанного волевого усилия. Таким образом, получается, что для индивидуального сознания более высокого порядка ощущение становится осознанным раньше, чем волевое усилие; ведь сознание последнего снова связано с ощущениями, пробуждаемыми завершенным двигательным импульсом в различных частях организма, и поэтому не может возникнуть раньше, чем будет сделан окончательный вывод из всего процесса. (Gr. III. 115.)
То, что, по-видимому, омрачает психофизический параллелизм у индивидов более высокого уровня, – это переплетение межиндивидуальной причинности между индивидами более низкого уровня и между ними и бессознательно-духовной, индивидуализирующей функцией более высокого уровня. Эта интеграция ложно называемой гетерогенной причинности во внутрииндивидуальные отношения между двумя способами появления не требует, однако, отказа от психофизического параллелизма, но лишь необходимости следовать за ним вниз от уровня к уровню, чтобы выявить его правильность. Подобно тому, как различная окраска белого света через призму может служить образом для утверждения «чистой идентичности», так и сферическая оболочка может служить образом для параллелизма, внешняя поверхность которого параллельна внутренней, но тем не менее изменяет все размеры соответствующих фигур. Сферическая оболочка как однородное тело соответствует однородному психофизическому индивиду; контраст выпуклости и вогнутости или положительной и отрицательной кривизны внешней и внутренней поверхности выражает контраст объективной реальности и субъективной (407) идеальности во внешнем и внутреннем облике. Дифференциация тождественного является здесь дифференциацией, которая обоснована в самой вещи, а не только привнесена субъективным взглядом, как, например, контраст синего и красного, согласно взгляду Гете, по отношению к белому свету.
Только в одном отношении эта картина кажется неадекватной: она представляет тождество и противоположность только в отношении субъекта в покое и готового двустороннего индивида внешности, но не в отношении идентичной метафизической функции и ее дифференциации в феноменальную деятельность, из которой в конечном результате возникает материальный и сознательно-духовный индивид. Если мы хотим выразить это, то должны заменить готовую физическую сферическую оболочку прямой линией, длина которой равна толщине оболочки и которая свободно перемещается во всех направлениях, но только так, чтобы сохранять радиальное положение и равное расстояние от центра сферы. Если представить себе точку на внешнем конце этого расстояния, которая светит только наружу, и точку на его внутреннем конце, которая светит только внутрь, но невидима снаружи, то при быстром перемещении расстояния в произвольно переплетающихся фигурах должны образоваться две сияющие сферические поверхности: одна выпуклая, излучающая свет только наружу, и одна вогнутая, излучающая свет только внутрь и видимая. Тогда движение линии соответствует идентичной метафизической функции, параллельные, но не совпадающие движения их светящихся конечных точек – параллельным феноменальным процессам, а выпуклая и вогнутая поверхность, обозначенная светящимися точками, – параллельности возникающего материального и сознательно-духовного индивида.
Понятно, что такие мыслители, погрузившиеся в этот психофизический параллелизм, поначалу настолько довольны полученным пониманием, что не чувствуют необходимости выходить за его пределы и исследовать связь этого параллелизма с причинностью. Они правильно чувствуют, что это отношение отличается от того, что естествознание понимает под причинностью в объективно-реальной сфере, а также от того, что психология и трансцендентальный идеализм понимают под сознательно-психической или имманентной причинностью, каждая из которых изотропна в своей сфере видимости. Желая справедливо отличить (408) психофизический параллелизм как от физической, так и от психической причинности, они полагают, что могут сделать это наиболее легко и наиболее уверенно, отличив его от причинности вообще. Поскольку он не может быть подведен ни под один из этих двух видов причинности, они считают, что его вообще не следует подводить под причинность, даже в смысле третьего вида.
Такая точка зрения должна укрепляться, когда смешиваются и путаются два понятия – гетерогенная и аллотропная причинность, а традиционное предубеждение против гетерогенной причинности, вопреки Лейбницу, переносится на аллотропную причинность. Однако это почти неизбежно там, где осознание относительности понятия индивидуальности и взаимосвязанных стадий индивидуации еще не достигло полного прорыва. Ибо тогда различие между межиндивидуальной и внутрииндивидуальной причинностью внутри одного и того же индивида вообще не может прийти в сознание; мнимо гетерогенная причинность не может быть понята как фактически гомогенная, межиндивидуальная; упомянутое выше перетекание друг в друга межиндивидуальных отношений низших и внутрииндивидуальных отношений высших уровней индивидуальности остается непонятым и перерастает в кажущееся единство внутрииндивидуального параллелизма. Поэтому неудивительно, что гетерогенная и аллотропная причинность одновременно отвергаются.
С точки зрения психофизического параллелизма, однако, нет никаких веских оснований для отказа от аллотропной причинности. Если всякая причинность есть превращение интенсивности из одной формы видимости в другую, то невозможно понять, почему это превращение должно останавливаться именно на различии между двумя формами видимости как материальной и сознательно-духовной деятельности, почему хотя бы объективно реальная интенсивность силы или воли не может быть превращена в субъективно идеальную интенсивность ощущения. Даже если бы психофизический параллелизм был исчерпывающим выражением фактов, он все равно был бы только этим, без всякой дальнейшей попытки объяснения. Он отменяет объяснение здравого смысла, согласно которому серия стимулов и серия ощущений, серия волевых актов и серия телесных актов ведут себя как причина и следствие: но (409) он не ставит на их место никакого другого объяснения, а останавливается на непонятном и сам по себе непостижимом факте параллелизма. Он утверждает, что идентичная функция дифференцирует себя параллельно в каждый момент, но он больше не может дать никаких причин или объяснений этой предварительно стабилизированной гармонии, реализуемой идентичной функцией. Тот факт, что между параллельными действиями двух полей видимости не проходит никакого измеримого времени, в любом случае не является основанием для того, чтобы не признать их связь причинной; ведь мы знаем, что причина и следствие удалены друг от друга только разницей во времени. Поэтому связь времен никак не помешает одной из параллельных деятельностей быть причиной другой, а другой – причиной одной.
Остается выяснить, подходит ли такая гипотеза для объяснения психофизического параллелизма, насколько она верно выражает факты, и насколько она требует дополнений и исправлений, чтобы должным образом их учесть.
Когда в центральном органе возникает молекулярное движение в результате введения внешнего стимула, совокупность метафизических функций, составляющих центральный орган, или ганглиозная клетка, на которую оказывается первое воздействие, или частица плазмы, на которую оказывается первое воздействие, действительно участвует в этом движении, поскольку характер движения различен в зависимости от группировки этих функций, но оно не исходит активно из них. Состояние движения иное, чем если бы внешний стимул не передавался им и функциональная группа была предоставлена сама себе. Результирующее состояние движения не возникло из собственных сил или воли группы, а навязано ей извне через межиндивидуальную причинность. Механическая энергия состояния движения, параллельная внутренним ощущениям, приходит не изнутри, а извне. Индивидуальная воля страдает от вторжения чужого волеизъявления, которое нарушает и мешает ее собственным тенденциям; она оттеснена от того, чего хочет в соответствии со своим собственным содержанием, и должна подчиниться принуждению чужой воли или, по крайней мере, пойти на компромисс с ней. Таким образом, то, что в объективно-реальном виде (410) передается движению, есть, говоря метафизически, частичное подавление одной индивидуальной воли другой.
Индивидуальная интенсивность, активность которой подавляется вовне, накапливается внутри и проявляется там как ощущение неудовольствия. Интенсивность трансформируется в зависимости от способа ее появления. Сколько энергии стимул предоставил и привел к внешнему проявлению в молекулярном движении, столько же энергии представлено в метафизической функции компромиссом. Эта интенсивность, накопленная в одном (реальном) измерении интенсивности, оказывается транс- ' сформированной в другом (воображаемом) измерении как аллотропная интенсивность2. Поэтому верно, что интенсивность молекулярного движения и интенсивность ощущения идут параллельно; но неверно, что они обе возникают одновременно в результате дифференциации одной и той же метафизической индивидуальной функции. Скорее, изменение, произошедшее в ранее существовавшем состоянии движения, возникает из энергии стимула, который первым вызвал его, и только из нарушения и перегрузки индивидуальной воли возникает ощущение. Очевидно, что, согласно общепринятой практике, механическая энергия поданного стимула будет называться причиной изменения состояния движения у данного индивида, а связанное с этим подавление индивидуальной воли – причиной ощущения.
Если индивид теперь реагирует на ощущение, то интенсивность воли, накопленная на одной стороне, перетекает на другую, открытую сторону.
Уменьшающееся скопление воли и ее разрядка воспринимаются как удовольствие, но оно исчезает в той мере, в какой уже произошла трансформация интенсивности из субъективно-идеальной в объективно-реальную сферу. Внутренний застой воления, который ощущается как неудовольствие, можно, таким образом, назвать причиной внешней разрядки интенсивности в сторону, которая еще открыта для нее (т. е. в сторону двигательного пути); т. е. ощущение неудовольствия становится мотивом двигательного воления. Это мотивированное таким образом воление, которое, однако, пока оно еще не разрядилось, может стать сознательным как ощущение напряжения, можно, в свою очередь, назвать причиной измененного состояния движения в центральных частях, соседствующих с двигательным путем (417), т. е. воление является причиной движения как объективно реального явления.
Эта концепция, правда, не отменяет психофизический параллелизм, но подтверждает его; однако она придает ему смысл, который одновременно дополняет и корректирует его понятие. Если раньше движение и ощущение рассматривались без различия, просто как дифференциация метафизической функции индивида, то теперь показано, что только моторное движение в центральном органе является непосредственным выходом метафизической функции индивида, тогда как сенсорное движение – это эффект энергии стимула, поступающей извне. Таким образом, сенсорные и моторные движения в центральном органе занимают теперь совершенно различное, даже противоположное положение по отношению к психическому процессу; первые являются temporal prius и причиной ощущения неудовольствия, вторые temporal posterius и следствием воления, которое причинно мотивировано ощущением неудовольствия. Таким образом, из параллельных членов внешний действительно относится к внутреннему, с одной стороны, и внутренний к внешнему, с другой, как причина к следствию, и именно через эту аллотропную причинность опосредуется и обеспечивается параллелизм. В одном случае параллелизм возникает между детерминированным извне (навязанным) движением и возникающим при этом ощущением затора, в другом – между ощущением разрядки и самодетерминированным движением, таким образом, в обоих случаях речь идет о параллелизме в двойном противоположном смысле.
Сознательное воление или ощущение напряжения находится между «неудовольствием от ощущения затора и удовольствием от ощущения разрядки». Оно начинается, как только возникает ощущение неудовольствия, и растет по мере его усиления, пока, в свою очередь, не переходит порог ощущений. Она достигает пика в начале разрядки, то есть когда импульс из двигательной иннервации начинает переливаться в двигательную проводимость, и уменьшается до полного завершения разрядки. Как на первой, восходящей половине своего пути он сопровождался неудовольствием от ощущения затора или торможением воли, так и на второй, нисходящей половине – удовольствием от ощущения разрядки или удовлетворением воли. Но если там она поднималась с нарастающим неудовольствием, то здесь она опускается с нарастающим удовольствием. В каждый момент сознательное воление или чувство напряжения (412) пропорционально той части интенсивности, которая еще не перешла из воображаемого в реальное измерение, а удовольствие или ощущение разрядки пропорционально той части, которая уже перешла. Таким образом, мотивационный процесс также предстает как каузальный процесс, в котором метафизическая функция, которая ранее была заблокирована и оттеснена из реального в воображаемое измерение, возвращается из воображаемого в реальное измерение интенсивности. Мотивационный акт – это обратный переход от одного вида трансформации к другому, возврат от негативной аллотропии к позитивной. (Гр. 111. 115.) (Гр. 111. 150.) (Гр. 11. 19.)
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Adolfo Faggi, Hartmann, Milano, Athena, 1927.
2
Vergl. oben S. 56—61, 63—66.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов



