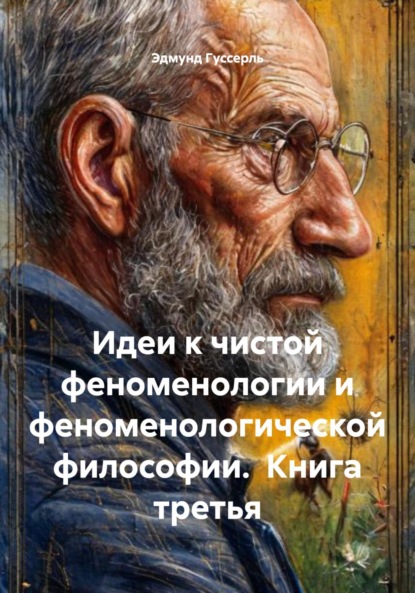
Полная версия:
Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Книга третья
Каждый шаг вперёд в области онтологии – и особенно в формулировании основных онтологических познаний или онтологических дисциплин, раскрывающих ещё не онтологически схваченные стороны соответствующей категории объектов – должен быть на пользу эмпирической науке. Мы уже говорили об этом, и здесь лишь напоминаем, чтобы обосновать законность, даже безусловную необходимость рациональной психологии.
Именно в исследованиях по феноменологии познания (в «Логических исследованиях») мы впервые осознали, что должна существовать такая дисциплина – причём огромного масштаба, – построенная не «сверху», из пустых «понятий» (смутных словесных значений), как старая метафизическая психология, а как эйдетическое учение, извлечённое из чистой интуиции. Это, кажется, полностью ускользнуло от всех прежних исследователей познания и сознания вообще, несмотря на многовековые разговоры об априори мышления и воли под названиями логики и этики. Ведь то, что они давали и хотели дать под этими названиями, было чем угодно, но не психологической эйдетикой в том смысле, о котором здесь идёт речь.
В упомянутой работе феноменология была представлена как чисто имманентное описание данного во внутренней интуиции (иногда вольно называемого там «внутренним опытом»), описание, которое, однако, устанавливает не эмпирические факты, а в установке «идеации» – только сущностные взаимосвязи. Именно на этом основывалось окончательное опровержение (предпринятое в «Шестом исследовании») психологизма в теории познания.
После этого в «Логических исследованиях» феноменологическая эйдетика и рациональная психология совпали. То, что рациональную психологию следует понимать как онтологию реального, конституирующегося в связи переживаний, и что она поэтому не может совпадать с сущностью самой этой связи, – в различных отношениях ошибочно. Это станет ясно после того, как мы проясним идею реальности вообще, а также психической реальности, и откажемся от старого недоверия (которое ещё владело даже автором «Логических исследований») к психической и эгологической реальности.
Удивительное соотношение между феноменологией и психологической онтологией, позволяющее первой находить своё место во второй, а второй – подобно всем онтологическим дисциплинам – в определённом смысле находить место в первой, займёт нас в дальнейшем, и мы увидим параллельные соотношения для онтологии духа.
Разбор сложных моментов и философские отсылки.
1. «Интуитивное раскрытие объективности».
– У Гуссерля «интуиция» (Anschauung) – не мистическое озарение, а непосредственное усмотрение сущностей. Это ключевая идея феноменологии: познание должно опираться на «усмотрение сущностей» (Wesensschau), а не на абстрактные конструкции.
– Сравнение: у Канта интуиция (чувственное созерцание) ограничена явлениями, а у Гуссерля она расширена до схватывания эйдосов.
2. «Эйдетическая установка».
– Это позиция, в которой мы рассматриваем не факты, а чистые возможности (сущности). Например, мы думаем не о конкретной радости (эмпирический факт), а о «радости вообще» как сущности.
– Связь с Платоном: эйдосы как идеальные формы, но у Гуссерля они даны не в трансцендентном мире, а в феноменологическом опыте.
3. «Онтология» у Гуссерля.
– Это не традиционная метафизика (как у Аристотеля или Хайдеггера), а наука о сущностных структурах объектов. Например, «онтология психического» изучает не мозг, а саму структуру сознания.
– Критика «старой метафизической психологии»: Гуссерль отвергает спекулятивные конструкции (как у Декарта или Лейбница), требуя возврата к «самим вещам».
4. «Рациональная психология».
– В классической философии (например, у Канта) это попытка познать душу через чистый разум, без опыта. Гуссерль переосмысляет её как феноменологическую эйдетику сознания.
– Кант критиковал рациональную психологию за иллюзорность (в «Критике чистого разума»), но Гуссерль считает, что она возможна как наука о сущностях сознания.
5. «Психологизм».
– Это позиция (например, у Дж. С. Милля), сводящая логические законы к психологическим. Гуссерль в «Логических исследованиях» жёстко критикует это, утверждая независимость логики от эмпирической психологии.
– Связь с Фреге: оба боролись с психологизмом, но Гуссерль идёт дальше, разрабатывая феноменологию как основу.
6. «Реальность психического».
– Гуссерль здесь намекает на своё позднее учение о «трансцендентальном Эго» (в «Картезианских размышлениях»). Он преодолевает ранний скепсис («недоверие» в «Логических исследованиях») к реальности Я.
– Сравнение: у Декарта «Я» – субстанция, у Гуссерля – поток переживаний, но с собственной онтологией.
7. «Феноменология и онтология».
– Феноменология описывает, как сознание конституирует объекты, а онтология изучает их сущностные структуры. Они взаимосвязаны: феноменология – метод, онтология – результат.
– Параллель у Хайдеггера: «фундаментальная онтология» в «Бытии и времени» тоже вырастает из феноменологии, но с акцентом на бытии, а не сознании.
Важно: Гуссерль здесь обосновывает:
1. Науки нуждаются в онтологии как учении о сущностях их объектов.
2. Психология должна быть не эмпирической, а «рациональной» (эйдетической), основанной на феноменологии.
3. Феноменология и онтология взаимопроникают: одна описывает конституирование, другая – сущностные структуры.
Это ключевой шаг к его поздней трансцендентальной феноменологии, где сознание становится основой всей онтологии.
§7. Региональные понятия и «родовые» понятия.Прежде всего, философу и феноменологу крайне важно совершенно ясно и интуитивно осознать, что отличает объективные региональные понятия, которые я выделяю: а именно, метод, согласно которому они могут быть выведены априори. Этот вывод не подразумевается в смысле «трансцендентальной дедукции» из какого-либо постулата или системы мышления, которая сама не дана в интуиции (как система форм суждения в кантовской дедукции так называемых категорий), а следует аподиктически очевидному «трансцендентальному ключу», следуя которому мы не выводим понятия, а находим их сами, шаг за шагом усматривая и схватывая их. Необходимо уяснить себе, что придает этим понятиям их уникальное значение и предопределяет их в качестве региональных понятий онтологий таким образом, что априори должно существовать столько онтологий, сколько есть региональных понятий – независимо от того, богаты они содержанием или бедны, разветвляются ли в крупные науки или исчерпываются небольшими группами положений. Далее, необходимо понять, что всякая радикальная классификация наук, прежде всего опытных, должна зависеть от этого образования понятий – «региона», в частности, что должно существовать столько принципиально различных эмпирических наук (или групп дисциплин), сколько онтологий. Не исчерпывая тему, мы лишь хотим сказать то, что необходимо, чтобы исключить вводящие в заблуждение эмпиристские возражения.
Эмпирист спросит: почему понятие «материальная вещь» (которое мы представляем как региональное) должно быть чем-то принципиально иным по сущности или играть иную роль, чем понятие «небесное тело»? Естественно, это очень общее понятие, можно даже сказать, в некотором смысле наиболее общее, охватывающее целые группы дисциплин. Но понятия возникают из опыта через обобщение; нам должно оставаться открытым находить в обобщении опытные основания для дальнейшего продвижения, и тогда более общее понятие будет играть ту же роль, что и понятие физической вещи. Тем более понятие «животное» (еще один пример регионального понятия): оно возникает не иначе, чем понятие «лягушка» или «рептилия», просто оно более общее. Действительно, дальнейшее обобщение ведет от него к «живому существу» – и, возможно, можно сделать еще шаг вперед. Все понятия, как общие, так и частные, происходят из опыта, и их полезность должна подтверждаться в процессе дальнейшего опыта. Мы всегда должны быть готовы изменить их в соответствии с ним.
С другой стороны, необходимо уяснить себе следующее: каким бы ни было это много обсуждаемое, даже двусмысленное, «происхождение из опыта» – и каким бы образом, будь то во сне или по чуду, мы ни приобрели способность использовать общие слова в тождественном значении – словесные значения могут быть действительными как логические сущности только в том случае, если согласно идеальной возможности «логическое мышление», актуализирующее их в себе, способно адаптироваться к «соответствующей интуиции», если существует соответствующее ноэматическое содержание – соответствующая сущность, схватываемая интуитивно и находящая свое истинное «выражение» через логическое понятие. Логическая сущность, конституирующаяся в чистом мышлении, и интуитивное ноэматическое содержание находятся в определенном эйдетическом отношении «подходящего выражения». Если это так, понятие действительно в смысле «возможности» соответствующего объекта. При этом эйдетическая интуиция может быть осуществлена на основе единичного акта воображения. Этой интуиции достаточно, чтобы схватить общую сущность, при условии, что она настолько всеобъемлюща, что действительно приводит к данности соответствующее интуитивное ноэматическое содержание, то есть не оставляет никакого компонента мыслительного представления, который не подходил бы в качестве чистого выражения компонента интуитивно данного ноэматического содержания.
С другой стороны, понятие обладает экзистенциальной значимостью только в том случае, если не воображение, а фактически происходящий «опыт», то есть изначально дающая и неоспоримо дающая интуиция, полагает индивидуальную действительность как действительность, которая подразумевается в ноэтической сущности; или если (через «опосредованное обоснование») на основе дальнейшего опыта полагание такой действительности рационально мотивировано.
Там, где понятия относятся к реальности, легитимирующая интуиция и опыт в принципе оставляют многое открытым. В соответствии со своим смыслом они оставляют место для более точных и измененных определений; интуитивные ноэматические сущности, а параллельно им в сфере выражения – логические сущности, сами мыслительные понятия, – соответственно, в различной степени отягощены неопределенностью. В соответствии с бесконечными возможностями необходимо все лучше и лучше познавать реальный объект, точнее определять в ходе опыта то, что остается открытым (или все определеннее воображать объект в активной интуиции), постоянно вводить новые понятия, которые вместе с первоначально выражаемыми упорядочиваются в более совершенные мыслительные выражения. Но поскольку реальная действительность – не хаос, а регионально упорядоченное целое, нет нужды в актуальных бесконечностях понятий, чтобы познать вещь. Становится ясно, что к многим реальным определениям бесконечно многие другие присоединяются как следствия согласно познаваемым правилам, и что существует классификация, согласно которой могут быть образованы родовые и видовые понятия, координирующие ограниченные группы характерных концептуальных черт, к которым, согласно опыту, присоединяются бесчисленные другие и из которых исключаются бесчисленные другие, так что при систематизации объектов под этими родами и видами осуществляется фактическое разделение всех индивидов наиболее общей экзистенциальной сферы, достаточно отделенной высшими родовыми признаками.
Понятия такого уровня, очевидно, не могут быть извлечены из чисто ноэматической интуиции. Действительно, ясно, что помимо своей существенной значимости они все обладают экзистенциальной значимостью. Точнее говоря: они несут в себе, помимо своей чистой значимости (своего смысла, свободного от всякого утверждающего полагания), знание, тезис, который имеет отношение к комплексам утверждений, уже научно закрепленных, о реальной действительности, – осадок уже полученных познавательных результатов относительно фактического существования.
В целом для всех наук (даже для идеальных) справедливо, что образование понятий, причем именно «возможных» понятий, полученных из ясности, конкретно закрепленных через адаптацию к интуиции, служит им для получения истинных суждений; справедливо и то, что они в конечном итоге отягощают понятия сужденческими значениями, благодаря чему те сами становятся судящими понятиями для сферы объектов науки. С такими сужденческими значениями понятия затем входят во все дальнейшие связи.
Таким образом, понятие понятия приобретает опасную двусмысленность. Мы должны четко различать: чистый смысл, свободный от всякого полагания, и смысл рассматриваемых выражений, отягощенный тезисами суждения. Очевидно, что ценные сужденческие понятия, подобные тем, которые ищет каждый исследователь реальности, могут быть извлечены только из актуально происходящего опыта. Поэтому, когда он говорит: все понятия происходят из опыта, он, очевидно, с самого начала имеет в виду сужденческие понятия, которые постоянно его занимают, которые составляют постоянную цель его работы. Естественно, он склонен оценивать образования понятий, движущиеся в сфере чистой фантазии, как «прядение пустых возможностей», как «схоластику». Но ясно, что, как бы он ни был прав там, где речь идет о добывании ценных сужденческих понятий, он не может быть прав во всех отношениях. И даже в отношении этих самых понятий. Ведь они обладают чистым сущностным ядром, фиксируемым до всякого сужденческого содержания, которое может интегрироваться в сущностные взаимосвязи, способные скрывать в себе ценное познание относительно возможности соответствующих объектов. И, конечно, очевидно, что эти ноэматические сущности составляют смысл, свойственный объективности, которая в таком случае интуируется или мыслится, и что любая чистая эйдетическая истина, имеющая свое основание в этих сущностях, предписывает вообще безусловно значимую норму для возможных объективностей такого смысла.
Следовательно, если мы возвращаемся к этим ноэматическим сущностям (чистые экспликации которых образуют однозначные понятия), то они, как сущности, обладают своими разделениями и связями, особенно подчинением более общим сущностям и, наконец, высшим родам, которые сами по себе абсолютно замкнуты, абсолютно резко ограничены. Все проводимые здесь в чистой интуиции различения рода и вида дают нечто принципиально иное, чем роды и виды эмпирических наук о реальности, которые получают свой смысл не через чистые сущности, а через основанный на суждениях познавательный запас опыта.
Теперь нас особенно интересуют здесь некоторые высшие эйдетические универсалии, такие как физическая вещь, одушевленное существо, или основные понятия, согласно которым различаются основные виды реальностей. И, наконец, также такая эйдетическая универсалия, еще более высокая, как та, что представлена понятием самой реальности, фиксируемым нами через эйдетическое определение (то есть извлеченным чисто из интуиции).
Давайте исходить из какой-либо определенной реальности, данной нам в актуально происходящем опыте. Пусть это будет материальная вещь, точнее: кусок золота. Она схватывается нами в этом актуально происходящем опыте в определенном смысле, и согласно части этого смысла она удостоверяется как действительно данная. Осуществляя эйдетическую фокусировку, мы теперь переходим к чистому смыслу; мы абстрагируемся от экзистенциального полагания актуально происходящего опыта. Смысл является лишь частично определенным; он необходимо неопределенен постольку, поскольку он есть смысл чего-то реального, что как таковое проявляло бы в бесконечных и многообразных сериях опыта все новые стороны и свойства, не предначертанные твердым содержанием в смысле, фиксированном исходным опытом, а лишь оставленные открытыми как неопределенные, но определимые возможности. Благодаря воздержанию от опытного полагания их требований, мы теперь свободны от всех оков, которые могли бы наложить на нас физика и химия. Мы движемся с свободной силой выбора в сфере «пустых возможностей». Пользуясь этой свободой без ограничений, мы сохраняем тождество смысла, поскольку объективность, представленная с ним, должна быть способна являться как тождественная, однозначная в себе, в любых сериях вариаций, которые мы осуществляем.
Таким образом, свободно фантазируя, мы позволяем вещи двигаться, деформировать свою форму как нам угодно, позволяем ее качественным определениям, ее реальным свойствам изменяться по нашему желанию; мы играем с известными свойствами и законами свойств, как они задуманы в физике, позволяем изменениям свойств протекать так, что законы должны быть переосмыслены, должны быть преобразованы в совершенно иные. Мы даже изобретаем для себя новые смыслы или новые качества для старых смыслов (пусть даже в косвенно предположительном изобретении); мы позволяем им распространяться в пространственной форме вместо старых и в них позволяем реальным свойствам или неслыханным трансформациям старых удостоверяться. Свободно продвигаясь таким образом, фантазия производит самые невероятные деформации вещей, самые дикие физические фантомы, пренебрегая всей физикой и химией.
Ясно, что совокупность произвольных образований, которые мы получаем из одной физической вещи, может быть идентично получена также из любой другой; более того, все может быть непрерывно преобразовано во все, совокупность формообразований одна и та же и фиксированная. И все же мы видим при этом, что даже в этой фантазии и вариации, враждебной всякому ограничению естественным законом, система порождений нашей фантазии сохраняет свои правила, которые оправдывают речь о замкнутой системе: они суть порождения фантазии, которая формирует и преобразует физические вещи, конституирует физические вещи и вновь разрушает их конституцию, осуществляет подлинные свойства вещей и вновь отказывается от них как от кажущихся свойств.
Физическая вещь, служившая нам исходным пунктом, трансформируется, остается некоторое время чем-то, что кажется физической вещью; и если мы действуем слишком свободно, если не уважаем сущностное отношение реальных свойств к реальным обстоятельствам, если не заботимся о том, чтобы наша фантазия упорядочивала образования так, чтобы это отношение сохранялось, тогда вещь распадается на многообразия фантомов (чувственных схем), текущие так, как многообразия, конституирующие реальные вещи, просто не могут и не должны течь. Физическая вещь – это просто не сущее вообще, а нечто тождественное в сочетании каузальных зависимостей. Это нечто, что может жить только в атмосфере каузальной закономерности. Но это требует определенно регулируемых организаций для конституирующих чувственных схем. Если свободно правящая фантазия безудержно прорывает эти организации, то не только отдельная схема превращается в «простой фантом», но и весь мир становится потоком одних лишь фантомов; он, следовательно, больше не природа. Но он не является по этой причине совершенно беззаконным. В своем гениальном прозрении Кант предвидел это, и это выражено в его работах в различии между трансцендентальной эстетикой и аналитикой. Для мира одних лишь фантомов все еще сохраняют силу чистая теория времени и чистая геометрия; однако это мир без всякой физики. Также в отношении чувственной наполненности фантомного протяжения существуют регулярности, но чувственная наполненность не удостоверяет никаких материальных свойств.
Давайте теперь оставим этот мир фантомов. Давайте теперь обуздаем нашу фантазию. Давайте снова начнем с опыта физической вещи, скажем, с восприятия дерева, того дерева вон там. Мы берем вещь именно как то, что является в этом восприятии; мы отключаем все опосредованное знание, даже знание физики и химии. Этим фиксируется определенный объективный смысл, который может быть описан. Является дерево, сосна и т. д. То, что является, именно в данном смысле, является актуально только некоторыми сторонами и тем не менее мыслится, хотя и неопределенно, как «нечто большее» по сравнению с тем, что «актуально» является. Эта неопределенность направляет нас в актуально происходящее восприятие и далее в возможные восприятия; на почве этой неопределенности, принадлежащей перцептивному смыслу, мы действительно можем спрашивать, и этот вопрос постоянно направляет нас в опыте, как этот объект выглядит согласно своим другим сторонам, как он определяется через все новые восприятия и должен быть описан согласно им и определен в мысли.
При этом каждый новый опыт ставит новые вопросы. Как бы ни была неизвестна вещь, как бы мало мы, следовательно, ни знали, чему нас, возможно, научит будущий опыт, одно ясно априори, а именно, что абсолютно фиксированная рамка для течения возможного опыта уже предначертана и, собственно, уже через смысл восприятия, являющегося исходным пунктом. Этим полагается не только объект вообще, но физически реальная вещь, субстрат, пусть даже с неизвестными реальными свойствами, относящимися к реальным обстоятельствам, как бы ни неопределенными. Если восприятие, служащее исходным пунктом, вообще должно сохранять легитимность, если объективность, положенная в его смысле, должна быть способна быть актуальной, тогда предписывается течение возможных опытов, относящихся к этому же объекту, однозначно определяющих его точнее.
Попробуем свободно измышлять, удерживаясь лишь в рамках этого исходного восприятия и его легитимности; пусть ничто из иного опытного знания нас не ограничивает – ни физика, ни какая-либо иная естественная наука. Будем свободно вымышлять последовательность переживаний, которая всесторонне и полностью гармонично подтверждала бы воспринятое; тогда фиксированный перцептивный смысл заставит нас измышлять реальные обстоятельства, которые как каузальные корреляты самоутверждающихся свойств подходили бы и сохраняли бы гармонию. Если мы последуем за этими окружающими реальностями и также разработаем их более точно, оставаясь верными однажды сделанным началам, то есть гармонично поддерживая сопутствующие реальные единства и конституируя в фантазии соответствующие им опытные ряды, то в итоге для нас конституируется целый мир – мир, имеющий свои законы, как они задуманы в физике, но который всё же вовсе не обязан быть тем же самым миром, который мы познавали бы не из вымысла, а из опыта и опытной науки.
Ибо в нашем фантазийном процессе мы, хотя и ограниченные исходной точкой, можем выбрать бесчисленное множество путей; каждый путь вновь ограничивает нас, но оставляет открытыми для дальнейших шагов вновь бесконечно много возможностей для опытного продвижения, и так происходит с каждым новым опытным вымыслом, который ограничен лишь тем, что уже положенное и измышленное как определённое в новых опытных началах должно гармонично сохраняться в своих определениях.
В зависимости от способа нашего измышляющего определения мы можем конституировать совершенно разные миры, которые все были бы мирами для физической вещи как отправной точки; каждый из этих миров имел бы свой собственный и отличный набор законов, свою отличную естественную науку; и потому в каждом мире физическая вещь как отправная точка (которая по своему смыслу и бытию как раз в соответствии со смыслом различных миров по-разному оснащена) была бы иной, в другой природе – иной природы.
Таким образом, фантазия всё ещё может править достаточно свободно; она уже не может выступать как разрушитель мира, но только как созидатель миров; но и здесь перед ней остаётся бесконечно много возможностей. Однако она настолько ограничена лишь предположением, что исходное восприятие должно быть значимым, что оно должно гармонично поддерживаться как восприятие своего объекта, точно так же, как оно полагает его в качестве экстенсивно реальной вещи, со всей остающейся открытой неопределённостью.
Как только мы отбрасываем это предположение и требуем вообще лишь единства, поддерживающего само себя (что уже предлагает фантом), реальность распадается, и всё растворяется в хаосе фантомов, который, если мы исчерпаем все возможности, скрывал бы среди прочего регулируемые связи фантомов, в которых конституируются все возможные миры, реальности.
Но в конце концов в идее фантома также заложено правило, охватывающее круг возможностей, закон, саморегулирующийся в определённых направлениях. Соответственно, в ходе всего возможного опыта априори действительно предначертано – и явно предначертано сущностью физического восприятия как основного вида восприятия или опыта. Именно поэтому идея физической вещи обладает уникальным отличием; она обозначает категориальную (или, как мы могли бы лучше сказать, региональную) рамку для всякого смысла, относящегося и возможного для опыта такого основного рода, рамку, к которой априори как к необходимой форме привязано всякое более точное определение объекта, положенного неопределённо в каком-либо опыте.
Если что-то вообще переживается (в рамках этой системы опыта), то тем самым полагается не только объект вообще, но и res extensa, материальная вещь; и это выражение определяет не содержание, а форму для всех возможных объектов возможного опыта такого рода вообще.
Как бы ни протекал затем опыт; даже если объект окажется иным, чем он был положен сначала; как бы ни изменялось и ни пересматривалось его определение – до тех пор, пока он вообще удерживается как существующий, весь опыт, определяя его согласно его «как устроен», регулируется; всё, что ему причитается, коррелятивно регулируется формальным смысловым составом, который включает в себя идея вещи.



