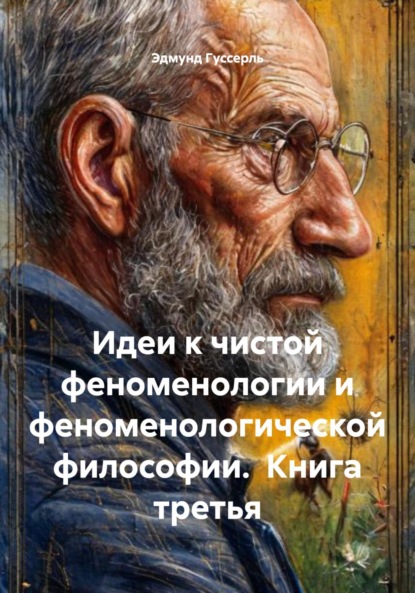
Полная версия:
Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Книга третья

Эдмунд Гуссерль
Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Книга третья
Глава первая. Различные регионы реальности.
(материальная вещь, живой организм, психика), соответствующие им основные виды апперцепции и возникающие из них науки.
В нашем феноменолого-кинетическом методе мы установили фундаментальное различие между просто материальной вещью, живым организмом и психикой, или психическим Эго, которое господствует во всяком восприятии мира, и одновременно исследовали его в отношении его феноменологических первоисточников. Как интуитивно данная артикуляция переживаемой реальности оно предшествует всякому мышлению, особенно научно-теоретизирующему, и поскольку опытное мышление вообще способно черпать свой окончательный обосновывающий базис только из опыта – а это означает, прежде всего, связывать себя с собственным смыслом переживаемого – то с самого начала ясно, что такие основополагающие различия объективностей, возникающие из базовых конститутивных апперцепций, должны быть решающими для разделения научных областей и для смысла их проблематики. Теперь займемся этим вопросом.
§1. Материальная вещь, материальное восприятие, материальная естественная наука (физика).
Прежде всего, у нас есть материальные вещи. Как бы тесно – согласно нашим анализам – конституирование этих вещей ни было переплетено с конституированием других категорий реальности, их единство задается особым типом и связью конститутивных актов. Изначально презентирующим актом является материальное восприятие (восприятие физических вещей), восприятие тел. Тем самым обозначен базовый вид восприятия, полностью отграниченный от всякого иного. Мы намеренно не говорим «внешнее восприятие», поскольку восприятие живого организма, представляющее собой новый базовый вид, также могло бы и должно было бы так называться. Кроме того, никто не сможет осудить наше выражение на том основании, что восприятие не является чем-то материальным. Обозначение восприятия чего-то материального как материального восприятия столь же оправдано, как и обозначение восприятия внешнего как внешнего восприятия – которое, конечно, само по себе не является внешним – и вообще оно столь же оправдано, как любое подобное и совершенно неизбежное именование через перенос. Материальное восприятие – это частный случай восприятия протяженного, к которому, конечно, относятся также восприятия фантомов.
В связности материального опыта природа, конституирующаяся в нем, переживается в своем единообразном пространственно-временно-каузальном взаимодействии. Когда этот опыт становится теоретическим опытом и когда он обосновывает теоретическое мышление о природе, тогда возникает материальная естественная наука. Объективность этой природы, природы в первом и фундаментальном смысле, основывается на взаимопонимании множества переживающих Эго, обладающих живыми организмами, которые являются им, а также тем, кто с ними согласуется. Это переплетение материальной природы с живой органичностью и психическим никоим образом не препятствует ее самостоятельности. Способ теоретического переживания и теоретических интенций мышления идет исключительно через материальные апперцепции опыта. В познании природы исследователь природы естественно присутствует телом и душой, и не только индивидуальный исследователь, но и сообщество исследователей, к которому каждый знает, что он принадлежит. Но как бы ни было это важно для конституирования Объективности природы, тем не менее речь идет о двух принципиально разных вещах: с одной стороны, мысленно пройти тотальную апперцепцию чего-то материального со всеми конститутивными компонентами, принадлежащими ей по сути – среди них апперцепции организмически-психического – так, чтобы теоретически переживающий взор был направлен, фиксируя и определяя, на само материальное бытие; а с другой стороны, быть теоретически направленным на живые организмы и психики и заниматься соответственно физиологическими и психологическими исследованиями – о которых нам вскоре предстоит говорить.
Вообще, где апперцепции основываются на апперцепциях и формируются апперцепции высшего порядка, там следует обращать внимание на эту возможность – укорененную в сущности сложных апперцепций – варьирующей «установки» тематического взора, который, как теоретический, определяет теоретическую тему и определяет ее в смысле, предписанном апперцепцией. Поскольку в апперцептивном комплексе конституирования реальностей опыт материальности представляет собой низшую ступень, которая конституирует реальность вообще, теоретически переживающий взор поэтому схватывает материальное как нечто существующее в себе, не основанное, не предполагающее в себе что-то иное и не имеющее под собой чего-то иного. Материальная природа предстает как нечто совершенно замкнутое и сохраняет свою замкнутую целостность и то, что ей подлинно принадлежит в этой замкнутости, не только в простой связности теоретического опыта, но и в связности теоретического опытного мышления, которое мы называем или должны были бы называть естествознанием в обычном смысле, или, точнее, материальной естественной наукой.
Как различные уровни познания природы определяются уровнем за уровнем конституирования материальной Объективности с присущим ей смыслом, и, в частности, как должны решаться трудные проблемы прояснения дескриптивной, в противоположность объяснительной, науки, как может быть освещен принципиально различный способ образования понятий и суждений в обоих – это отдельная область феноменологического исследования теории науки. Мы обсудим связанные с этим вопросы в другом месте.
Здесь укажем лишь на одно, что должно постоянно учитываться во всяком познании реальности, будь то материальной или какой-либо иной. Согласно нашим анализам и в отношении сущности переживаний, в которых конституируется реальность, познание реальности и познание каузальности неразрывно едины. Всякая наука о реальном является каузально-объяснительной, если она действительно и в смысле Объективной значимости хочет определить, что есть реальное. Познание каузальных отношений не является чем-то вторичным по отношению к познанию реального, как если бы реальное сначала существовало в себе и для себя, и лишь затем, как нечто несущественное для его бытия, вступало бы в отношение с другими реальностями, воздействуя на них и испытывая воздействие (претерпевая эффекты), как если бы, соответственно, познание могло выявить и определить собственную сущность реального, независимую от познания его каузальных связей. Дело, скорее, в том, что для реальности как таковой принципиально важно не иметь подобной собственной сущности; напротив, она есть то, что она есть, только в своих каузальных отношениях. Она есть нечто принципиально относительное, требующее своих соответственных членов, и только в этой связи члена и соответственного члена каждый является «субстанцией» реальных свойств. Субстанция, которая была бы одна (в том смысле, что всякая Объективная реальная вещь есть субстанция), есть бессмыслица. Субстанция в смысле известных определений Декарта и Спинозы есть, таким образом, нечто принципиально иное, чем Объективная реальность в смысле наших разграничений.
С другой стороны, каузальность не так просто дана в контексте опыта, так же как, иным образом, и само реальное, стоящее в каузальных отношениях, тоже не просто дано. Конечно, в определенном смысле всегда можно сказать: где было переживание, там что-то было пережито, тем самым дано, и дано без дальнейших условий, например, дерево, которое мы видим. И оно дано в своих обстоятельствах. Но что касается последних, они лежат в полном окружении, воспринимаемом вместе с ним, и то, что в нем является собственно каузально определяющим обстоятельством, остается неясным. Теоретически переживающий взор легко схватывает отличительные черты в воспринимаемом, данные в соответствии с восприятием, и поскольку есть сознание чего-то реального, есть и сознание каузальности – но совершенно неясное и могущее быть выявленным, подготовленным и определенным концептуально только посредством теоретического анализа и исследования опыта.
С другой стороны, и само реальное, субъектный член реального отношения, есть нечто неопределенное; реальный объект дан только односторонне; реальное состояние, хотя и воспринятое, сможет показывать себя все богаче в процессе восприятия, если оно неизменно; в процессе его изменений свойство, заявляющее о себе в них, будет выступать все совершеннее при принадлежащих ему реальных условиях и т. д. Таким образом, как можно видеть с самого начала, научное исследование требует все нового проникновения в реально-каузальные связи.
Какие методы требуются для получения Объективно значимых суждений о реальности (и какие условия должны быть предписаны в самой сущности опыта для возможности таких суждений) – обсуждение этого составляет отдельную тему. Нас интересовало лишь прояснить, почему каузальное исследование играет такую доминирующую роль в науках о реальном и почему поэтому так много говорится о каузальности в наших дальнейших рассуждениях.
Комментарии и пояснения:
1. Феноменолого-кинетический метод () – вероятно, авторский термин, сочетающий феноменологию (учение о структурах сознания, разработанное Э. Гуссерлем) и кинетику (учение о движении). Здесь подчеркивается динамический аспект конституирования реальности в сознании.
2. Конституирование – ключевое понятие феноменологии: процесс, посредством которого сознание придает смысл и структуру переживаемому.
3. Субстанция у Декарта и Спинозы – у Декарта субстанция есть то, что существует само по себе (res cogitans и res extensa), у Спинозы – единая, вечная природа (Deus sive Natura). Здесь подчеркивается, что их понимание субстанции отличается от «объективной реальности» как относительной и каузально обусловленной.
4. Каузальность – не просто внешняя связь, а сущностное свойство реального, что перекликается с кантовским пониманием причинности как априорной категории рассудка.
5. Перенос названий – например, «материальное восприятие» не означает, что само восприятие материально, но что оно направлено на материальное. Это пример языковой условности, характерной для философского дискурса.
6. Объективность природы – зависит от интерсубъективности (согласия множества Эго), что напоминает гуссерлевскую идею интерсубъективной конституции объективного мира.
7. Дескриптивная vs объяснительная наука – противопоставление описательных наук (например, феноменологии) и объясняющих (например, физики), важное для неокантианцев (Виндельбанд, Риккерт) и самого Гуссерля.
Важно: Этот параграф демонстрирует типично феноменологический подход: анализ структур сознания, конституирующих реальность, с акцентом на интенциональности, каузальности и интерсубъективности.
§2. Живое тело (animate organism), восприятие живого тела и соматология.a) Специфические определения живого тела.
Вторым фундаментальным типом аппрегензии (восприятия-схватывания), конституирующим свой объект как объект второго уровня, является восприятие живого тела. Это новый фундаментальный тип, учитывая принципиально иной способ, которым конституируется высший слой объектности живого тела – специфический слой собственно живого, в отличие от всего, что относится к его материальному субстрату.
С этим связаны (априорно, разумеется) коррелятивные сущностные различия между материальными определениями живого тела и его собственно органическими свойствами. К этому слою относятся реально единые сенсорные поля в их изменяющихся состояниях ощущения, зависящих от реальных обстоятельств. Прежде всего, те поля, которые непосредственно и интуитивно демонстрируют форму локализации, конститутивную для этого типа объективации.
– Тактильное поле выступает как первичное, поскольку обладает изначальной, фундаментальной локализацией.
– Над ним надстраиваются другие поля, например, поле «тепло–холод» (но не «температура», поскольку это физическое понятие, не имеющее здесь значения).
Далее, каждое сенсорное поле и каждая замкнутая группа ощущений вступает в реализующую связь с живым телом, проявляя различные аспекты его чувствительности и образуя различные слои ощущений, реально ему принадлежащих.
Пример:
Я могу осознавать своё визуальное поле как непрерывно наполненную зрительную протяжённость (если отвлечься от объективных аппрегензий, которые надстраиваются над ним и благодаря которым я вижу физический мир в определённых аспектах). Затем я могу связать это единство в контекстах опыта и мышления с живым телом, точнее – с сетчаткой глаза, чья двумерная структура соответствует порядку зрительного поля.
Таким образом, универсум ощущений каждого «Я» получает отношение к живому телу и его частям, характеризующимся как «органы чувств», и сам становится чем-то животелесным, но не материальным.
Локализация и её условия:
– Чувственная боль и желание могут «распространяться», а значит, локализуемы.
– Зрительные ощущения также протяжённы, но у человека нет непосредственного восприятия их локализации (хотя сущностно это возможно для живого тела вообще).
Зависимость от материального субстрата:
– Живое тело может включать материальные части, которые можно удалить без потери его животелесности.
– Оно может расти (например, волосы, ногти) или даже расширяться за счёт инструментов (палка, одежда), которые становятся его продолжением в акте использования.
b) Наука о живом теле: соматология.
Теоретическое исследование может быть направлено на эту сферу бытия. Восприятие и опыт живого тела – соматология – могут стать основой теоретического познания.
Поскольку собственно соматологическое – не отдельная реальность, а высший слой, надстроенный над материальностью, его изучение требует и материального опыта (относящегося к естествознанию), и специфически соматологического (новой формы опыта).
Пример из физиологии:
Изучение органов чувств и нервной системы – это одновременно:
1) материальная наука (физика, химия тканей),
2) соматология (исследование связи органов с ощущениями).
Проблема восприятия чужого живого тела:
– Мы «видим» боль животного или удовольствие человека, но это интерпретирующее восприятие (Eindeutung), а не прямое данное.
– Это ближе к опыту, чем к памяти, но не является подлинной оригинарной данностью (как у Гуссерля в Картезианских размышлениях).
Почему ботаника не включена?
Хотя растения и животные имеют сходства, у нас нет достаточных оснований для эмпатического истолкования растений как живых тел с ощущениями. В зоологии такая интерпретация возможна благодаря конкретному опыту чувствительности, связанной с органами.
Сложные моменты и философские параллели .
1. Аппрегензия (Apprehension) – у Гуссерля это акт схватывания объекта в восприятии. Здесь он различает уровни:
– Материальный слой (физическое тело),
– Органический слой (живое тело как носитель ощущений).
Сравнимо с «Leib» и «Körper» в Идеях II.
2. Локализация ощущений – отсылка к проблеме психофизического параллелизма. Гуссерль избегает натурализма, подчёркивая, что ощущения не «в мозгу», но конституируются в феноменологическом опыте.
3. Интерпретация (Eindeutung) – ключевое понятие для понимания другого сознания. Развито позднее в теории вчувствования (Einfühlung), ср. с Шелером («Сущность и формы симпатии»).
4. Расширение тела через инструменты – предвосхищает концепцию экстернализации у Мерло-Понти («Феноменология восприятия») и современные теории embodied cognition.
5. Критика биологии – Гуссерль осторожен в применении соматологии к растениям, что отражает его общий скепсис к натуралистическим редукциям жизни. Ср. с Хайдеггером («Бытие и время», §10), где растения лишены «мира».
Важно: Этот параграф закладывает основы гуссерлевской феноменологии телесности, где живое тело – не объект среди других, а место встречи субъективности и мира. Позднее это разовьётся в:
– теорию интерсубъективности,
– критику натурализма в психологии,
– экзистенциальную трактовку тела у Сартра и Мерло-Понти.
§3. Разграничение соматологии и психологии.Проведенное нами здесь разделение под названием «Соматология» является совершенно естественным; оно охватывает класс исследований столь радикально, насколько это вообще мыслимо для науки, а именно – посредством основной формы опыта и предметности опыта. Тем не менее понятно, что самостоятельная, подлинная соматология никогда не формировалась, так же как понятно и то, что идея такой науки (сколь важной она ни была бы по причинам, связанным с теорией науки) никогда не возникала. Ее возникновение предполагает чистое отделение ощущения от ткани аппрегенции, в которую оно вплетено, то есть предполагает необычные феноменологические анализы, а также предполагает отвлечение взгляда от того, что дано в полных аппрегенциях и что определяет наши естественные направления внимания. Мы воспринимаем живой организм, но вместе с ним также и вещи, которые воспринимаются «посредством» живого организма в модусах их явленности в каждом случае, и наряду с этим мы также осознаем себя как людей и как Эго, которые воспринимают такие вещи посредством живого организма. Живой организм, схваченный как живой организм, имеет свой локализационный слой тактильных ощущений, но мы касаемся этой вещи здесь, мы «ощущаем» контакт нашей одежды и т. д. Отсюда двусмысленность «ощущать». Живой организм ощущает, и это касается локализованного. Через него мы «ощущаем» вещи; здесь «ощущение» – это восприятие пространственных вещей, и это мы, воспринимая, направляем наш интеллектуальный взгляд на вещь, и этот живой организм – наш живой организм.
Но если мы феноменологически анализируем взаимосвязи аппрегенций, то становится очевидной стратификация аппрегенций, которую мы подробно описали. И независимо от того, правильно ли она рефлексивно распознана или нет, она господствует над теоретическим опытом и проблемами, которые должны быть поставлены на его основе, в той мере, в какой они правильно поставлены и успешно разработаны, как это бывает во всех подлинных теориях и подлинных науках. И к ним, конечно, относятся зоология и особенно физиология, а с другой стороны – психология, при условии, что все это понимается в своих собственных границах. Ибо с обеих сторон – и именно в сфере специфически соматологического, что здесь обсуждается – не отсутствуют большие массивы неправильно поставленных проблем, а вместе с ними и теории соответствующей ценности (например, весь комплекс проблем и теорий, поставленных под рубрикой «психологическое происхождение представлений о пространстве, времени, физической вещи», полон бессмыслицы, особенно в отношении того, что должно было бы быть включено в соматологическую сферу). С другой стороны, аппрегенциональный слой, в котором конституируются чувствительности живого организма, а следовательно, и он сам, показал себя нам как тесно сплавленный с теми слоями, которые конститутивны для психики и психического Эго, и действительно настолько тесно, что аппрегенция психики неизбежно должна включать в себя состояния ощущений живого организма. Конечно, с точки зрения чистого сознания ощущения являются незаменимым материальным основанием для всех основных видов ноэз; и если сознание, которое мы называем опытом физической вещи или даже опытом живого организма, по существу содержит в своей конкретной единственности ощущения как материалы аппрегенции (в «Логических исследованиях» я использовал неверно понятое выражение «репрезентативные содержания»), как каждое сознание входит в аппрегенцию психики и становится реальным состоянием психики и психического Эго, с отношением к реальным обстоятельствам – если это так, то очевидно, что те же самые ощущения, которые функционируют в реализующей аппрегенции материального восприятия как презентативные содержания для материальных характеристик, получают локализацию как состояния ощущений и заставляют специфическую органическую живость появляться в новой реализующей аппрегенции, которую мы называем опытом живого организма; и в-третьих, наконец, они являются компонентами психического под рубрикой состояний восприятия Эго (материального восприятия и, равным образом, опыта живого организма) и, следовательно, принадлежат психике (то есть совокупностям состояний психики) и соответственно жизни Эго. Все это можно увидеть, можно привести к ясной данности для себя; и тот, кто следил за нашими изложениями, видел это вместе с нами. Поэтому не случайно, а скорее понятно по существенным основаниям, если психология, понимаемая как наука о психике, также имеет дело со всеми ощущениями. Вопрос о том, как она имеет с ними дело или должна иметь с ними дело – это может быть взято только из смысла, присущего «психологическому опыту», из психически-реального, которое конституируется в этой новой основной форме опыта. Мы должны исследовать этот опыт, чтобы увидеть, как психическое дается всякий раз, когда интенция этого рода опыта, однозначно находящая исполнение, осуществляет себя – и это не фактически, а по существу. И то же самое относится к общему вопросу о том, с чем она вообще имеет дело, что принадлежит ей и в каком смысле, и какие принципы метода смысл этого «что» предписывает ей.
Другие могут думать иначе и утверждать, что для понимания сущности психологии и её метода необходимо обращаться в психологические институты и опрашивать специалистов, – как, впрочем, и в других науках широко распространено убеждение, что только профессионал – математик, естествоиспытатель и т. д. – может дать сведения о сущности, целях и методах математики, естествознания и прочих дисциплин. Я не стану спорить с теми, кто так судит, ибо они ещё не дошли до понимания того, чем по своей сути должна заниматься философия в отличие от нефлософских наук. Но тот, кто это понял, знает, что методологическая техника – это не дело философа, а дело догматического исследователя, догматической науки; напротив, сущностная основа, идея каждой науки категориального типа и идея её метода как «смысла» всякой науки предшествует самой науке и может – и должна – быть установлена из самой сущности идеи её предметности, определяющей её догматику, то есть может быть установлена априори.
Чтобы постичь «сущность» числа, прояснить основное понятие арифметики и понять фундаментальные источники её методологии, нам не помогут ни теория интегральных уравнений, ни размышления о таких теориях; для этого даже не нужно знать таблицу умножения. Научное прояснение или определение сущности психического, а тем самым возможных целей и методов (в их фундаментальной универсальности) – это не дело психолога-техника, а дело философа. Это относится ко всем категориям бытия, которые коррелятивно восходят к категориальным базовым формам сознания. Утверждения вроде того, что вся научная методология едина; что, следовательно, философия должна следовать методологическому образцу точных наук, например, математики или естествознания; что философия, очевидно, должна опираться на специальные науки, чтобы перерабатывать их результаты – подобные утверждения повторялись так часто, что вместе со всеми сопровождающими их разъяснениями стали совершенно тривиальными. Зерно истины, содержащееся в них, от этого не увеличилось; зато вред, причиняемый гораздо большей долей лжи в этих искажённых утверждениях, стал огромным. Он грозит поглотить немецкую философию.
Я считаю оправданным, что догматики не прислушиваются к философам, если они просто хотят быть специалистами в своих областях, а не философами, оставаясь при этом, несомненно, уверенными в своём догматическом прогрессе. Но если они хотят быть философами и считают философию своего рода продолжением догматической науки, то они подобны людям, которые воображают, что с достаточным прогрессом в физике и химии человечество продвинется настолько, что с помощью средств à la Эрлих-Хата сможет излечивать не только физический, но и моральный сифилис.
Что касается ощущений, то ответ очевиден: если, согласно способу их данности, в соматологии они являются проявлениями чувствительности одушевлённого организма, и если, следовательно, задача теоретической мысли в этой науке – исследовать причинные связи, относящиеся к этой чувствительности, то психология, следуя смыслу своего опыта, должна исследовать именно те причинные связи, которые принадлежат её единству опыта – психике, и направлять на ощущения тот реально-причинный интерес, который соответствует их месту в психическом контексте. Всю желаемую ясность мы обретаем, если сразу перейдём к общему рассмотрению. Если психика – это реальность, которая имеет свои комплексы состояний под рубрикой сознания, то, согласно ранее установленному, это сознание – будь то через самовосприятие или через интерпретирующее восприятие – дано как нечто, принадлежащее одушевлённому организму. То есть в основе лежит объективация одушевлённого организма, причём таким образом, что одушевлённый организм занимает положение реальности, фундирующей психику. В целом, человек дан как реальность, включающая в себя материальную одушевлённую вещь, которая становится полным человеком благодаря психическому слою, переплетённому с чувствующим слоем. Мы имеем смешение трёх реальностей, каждая последующая в ряду включает в себя предыдущую благодаря тому, что просто добавляет новый слой. Ощущение стоит, так сказать, на границе между вторым и третьим уровнями. На втором уровне оно – проявление чувствительности одушевлённого организма. С другой стороны, на третьем уровне оно является материальным основанием для перцептивных аппрегензий, например, для материального восприятия, в этом случае выполняя двойные аппрегентные функции, о которых говорилось выше: как кинестетическое – в функции мотивирующего, как презентирующее ощущение – в функции мотивированного, представляя при определённых условиях нечто из содержания состояний материального объекта (например, цвет, гладкость и т. д.). Все эти аппрегензии теперь вовлекаются в высшее, специфически эгологическое сознание. Но независимо от того, направлен ли на них взгляд Эго из этого слоя, совершает ли Эго в них спонтанные эгологические акты или нет, они в любом случае (как и спонтанные акты) не являются просто событиями чистого сознания. Скорее, они сами подвергаются своей аппрегензии, а именно – аппрегензии как психические состояния. Человек или животное – это не просто одушевлённый организм, с состояниями ощущений которого каким-то образом связано сознание; напротив, человек обладает собственным специфическим психическим характером, благодаря которому он так вбирает в своё сознание ощущения, которые чувствует через свою одушевлённую органичность, так аппрегенирует их, относится – теоретически познавая, размышляя, оценивая, действуя – к тому, что в них является, что игра его репродукций протекает именно в таких констелляциях и связывает с собой процесс оригинарных впечатлений (чувственных и нечувственных) и т. д.



