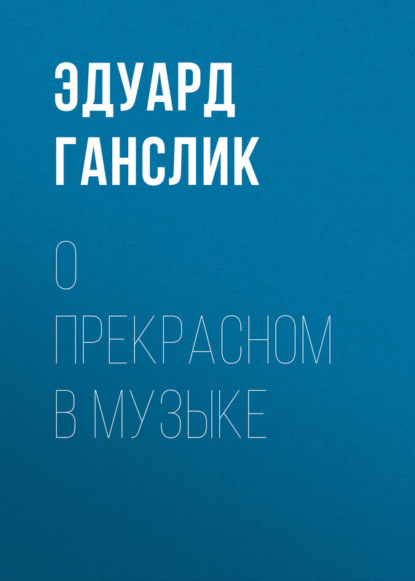 Полная версия
Полная версияО прекрасном в музыке
Интенсивное действие музыки на нервную систему признано психологией, равно как и физиологией. К сожалению, ни та, ни другая наука вам не дает удовлетворительного его объяснения. Психология не в состоянии проследить, почему известные аккорды, тэмбры, мелодии производят на человеческий организм то или другое впечатление, так как вопрос сводится прежде всего на специфическое раздражение нервов. Но и физиология, не смотря на все своя громадные успехи, до сих пор даже и не приблизилась к разрешению этой загадки.
Не всем меломанам, может быть, известно, что существует целая литература о физиологическом действии музыки и о применении её к врачебным целям. Мы тут встречаем не мало курьезов, но весьма редко – серьезные наблюдения или научные объяснения. Большая часть этих медиков-музыкантов стараются придать исключительное и самобытное значение одному из многосложных свойств музыки. Притом же, действие музыки на физический организм вовсе не так сильно и постоянно или так независимо от разных психологических и эстетических условий, чтобы служить настоящим лечебным средством, которым бы врач мог располагать по своему благоусмотрению. Всякое исцеление, совершенное посредством музыки, является исключительным случаем, в котором успех невозможно приписать музыке, так как он непременно зависит от множества чисто индивидуальных особенностей, телесных и душевных. Достойно замечания, что единственное применение музыки, ныне встречающееся в медициской практике, а именно, при лечении умалишенных, основывается на духовном её воздействии. Известно, что новейшая психиатрия, во многих случаях, с успехом прибегает к музыке. Но успех этот не основывается ни на физическом потрясении нервов, ни на возбуждении аффектов. а на успокоительном действии, которое гармонические переливы звуков, то развлекающие, то приковывающие внимание, могут иметь на сумрачное или раздраженное настроение больных. Конечно, на больных влияет прежде всего чувственный элемент музыки, но уже одно возбуждение внимания есть шаг к художественному восприятию.
Но что же вносят все эти медицинские теории в научное исследование музыки? – Подтверждение давно подмеченного факта, а именно – физического возбуждения, сопровождающего аффекты и чувства, вызываемые музыкой. Если дознано и доказано, что музыка необходимо действует и на физический организм, то ясно, что ее следует рассматривать и с этой, её существенной стороны. И потому, человек, преданный этому искусству, не может себе составить о нем научного понятия, не ознакомясь с новейшими выводами физиологии относительно связи музыки с ощущениями и чувствами.
Если мы обратимся к вопросу, каким способом мелодия действует на наше внутреннее настроение, то мы увидим, что путь её, от колеблющихся струн инструмента до нашего слухового нерва, достаточно известен, после знаменитого труда Гельмгодьца о звуковых ощущениях. Акустика точно определяет внешния условия, при которых мы можем слышать звук вообще, или тот или другой данный звук; анатомия, при помощи микроскопа, нам открывает устройство слухового органа до мельчайших подробностей; физиология, наконец, хотя и не может производить прямых экспериментов над этим тонким и нежным, да притом глубоко запрятанным снарядом, однако достаточно разъяснила нам его деятельность, при помощи остроумной гипотезы Гельмгольца, – так, что весь физиологический процесс звуковых ощущений для нас стал вполне ясным и понятным. Еще далее, в области, где естественные науки уже близко соприкасаются с эстетикой, исследования Гельмгольца бросили яркий свет на законы созвучия и на сродство тонов. Но этим и ограничиваются наши познания. Главное для нас осталось необъяснимым, а именно, тот нервный процесс, посредством которого звуковое ощущение переходит в чувство или душевное настроение. Физиология знает, что то, что мы ощущаем, как звук, есть молекулярное движение нервного вещества в слуховом нерве, как и в центральных органах. Оно знает, что нити слухового нерва соприкасаются с прочими нервами и передают им свои раздражения; что слуховой аппарат, например, находится в связи с большим и малым мозгом, с гордом, с легкими, с сердцем. Но ей неизвестен способ, которым музыка действует на нервы, тем более законы, по которым различные тэмбры, аккорды, ритмы действуют на различные нервы. Распределяется ли музыкальное ощущение на все нервы, связанные с слуховым, или на некоторые только? С равною ли интенсивностью? Какие музыкальные элементы преимущественно действуют на мозговые нервы, какие на сердце, на легкие, и т. д.?
Несомненно, что в людях молодых, с темпераментом еще не искаженным условною культурой, плясовая музыка производит легкия судорги по всему телу, особливо в ногах. Было бы непростительною односторонностью видеть тут одно действие психологической ассоциации идей. Действительный психологический элемент – воспоминание уже испытанного удовольствия при танцах – не может служить достаточным объяснением. Данная музыка не потому поднимает нас на ноги, что она плясовая, а, наоборот, она плясовая потому, что нас поднимает на ноги.
Кто бывал в опере, тот, конечно, заметил, как при оживленных, легко понятных мелодиях, дамы невольно покачивают годовою направо и налево; – никогда этого не бывает при самом мелодичном и потрясающем адажио. Можно ли из этого заключить, что известные ритмические соотношения действуют на двигательные нервы, а другие только на нервы чувствительные? Когда же происходит первое, когда второе? Подвергает ли музыка особым изменениям солнечное сплетение, которое некогда считалось главным центром ощущений? Или она преимущественно действует на симпатические нервы (в которых, как справедливо заметил Пуркиньэ, самое лучшее – их название)?
Мы знаем, почему иной звук нам кажется резким и неприятным, а другой чистым и приятным – акустика нам это объяснила, точно также как причину созвучия или диссонанса известных тонов; но эти объяснения более или менее сложных слуховых ощущений не могут удовлетворять эстетика; он требует объяснения внутреннего чувства и спрашивает: почему ряд гармонических звуков производить впечатление грусти, а другой ряд, не менее гармоничный, впечатление радости? Отчего] происходят разнообразные, часто неотразимо охватывающие настроения, которые различные, одинаково благозвучные аккорды или инструменты непосредственно наводят на слушателя?
Сколько нам известно, физиология не в состоянии отвечать на эти вопросы. Да и не мудрено. Разве она знает, каким образом горе порождает слезы, или веселие порождает смех? Знает ли она даже, что такое горе и веселие? Нельзя требовать от науки разъяснения фактов, не входящих в её область.
Нет сомнения, что первая причина каждого чувства, вызываемого музыкой, должна заключаться в потрясении нервов слуховым впечатлением. Но каким образом раздражение нерва (которое мы даже не можем проследить до самого его источника) переходит в определенное, сознанное впечатление, как чувственное впечатление превращается в душевное состояние, как, наконец, ощущение становится чувством – все это скрывается за тою темною пропастью, которую еще не удалось перешагнуть ни одному исследователю. Это только разные стороны вековой, мировой загадки: отношения души и тела.
Из всего этого ясно следует, что теории, основывающие принцип музыкальной красоты на её влиянии на чувства, не имеют никакого научного значения, так как связь между этими чувствами и обусловливающими их ощущениями наукой не разъяснена. С точки зрения чувства невозможно дойти до эстетического или научного определения музыки. Описанием чисто субъективного настроения, которое на него наводит какая-нибудь симфония, критик не определит её достоинства и значения, не разъяснит его своим ученикам. Последнее особенно важно: если б, между известными чувствами и определенными музыкальными формами существовала такая прямая и необходимая связь, как многие предполагают, не трудно было бы начинающему композитору доработаться до высокой степени художественного творчества. Были даже попытки в эту сторону.
Маттесон в третьей главе своего «Образцового капельмейстера» пресерьезно учит, как изображать музыкально гордость, смирение и всевозможные страсти. Он говорит, например, что все пиесы, выражающие ревность, должны носить «мрачный, гневный и жалобный отпечаток».
Другой писатель прошлого столетия, Гейнхен, в своем «Генерал-Бассе» дает нам 8 листов музыкальных примеров, как изображать «бешеные, гордые, злобные или нежные чувства». Но отсюда всего один шаг до известных кухонных рецептов.
Если бы действие каждого музыкального элемента на человеческие чувства было бы необходимой и вполне доступное исследованию, то можно было бы играть на душе слушателя, как на любом инструменте. А если б это удалось, – было ли бы этим достигнуто назначение искусства? В самой постановке этого вопроса уже заключается отрицательный ответ. – Музыкальная красота – единственная сила художника, она одна служит ему твердой и надежной почвой.
Мы видим, что. оба наши вопроса, а именно: одарена ли музыка специфическим действием на наше чувство и можно ли это действие назвать вполне эстетическим? – одинаково разъясняются исследованием интенсивного действия музыки на нашу нервную систему. На нем-то основана особая непосредственность и сила, с которой музыка, сравнительно с другими искусствами, может возбуждать в нас аффекты.
Но чем сильнее и неотразимее физиологическое действие искусства, тем менее в нем участвует художественный элемент. И так, в основе музыкального творчества и воспринимания музыки должен лежать другой элемент, представляющий чисто-эстетическую сторону искусства, связующую его со всеми прочими. Особое его проявление в музыке и многосторонния его отношения к душевной жизни мы рассмотрим в следующей главе.
V
Важной помехой научному развитию музыкальной эстетики был слишком большой вес, придаваемый действию музыки на чувства. Чем яснее проявлялось это действие, тем более напирали на него, как на признак музыкальной красоты. Мы же, напротив, видели, что именно в более сильном впечатлении, производимом музыкой на слушателя, играет важную роль физическое возбуждение. Это усиленное влияние музыки на нашу нервную систему зависит не столько от художественного элемента, действующего, как мы видели, на одно воображение, как от самого её материала, одаренного этим необъяснимым физиологическим действием.
Внешняя сторона музыки, т. е. звук и ритм – вот что овладевает чувствами стольких любителей. Мы не желаем оспаривать права чувства при оценке музыки. Но это чувство, почти всегда сопровождающее чистое созерцание, только тогда может считаться художественныим, когда оно ясно сознает свою связь с другим, эстетическим чувством, т. е. с наслаждением прекрасным, в настоящем случае прекрасным в музыке.
Если нет этого сознания, нет чистого созерцания прекрасного, если нами овладевает одна стихийная сила звуков, то искусство тем менее может приписать себе это впечатление, чем сильнее проявляется это последнее. Число лиц, слушающих, или, лучше сказать, чувствующих музыку таким образом весьма значительно. Пассивное восприятие элементарной стороны музыки производит в них не то чувственное, не то умственное возбуждение, определяемое линь общим характером музыкального произведения. Их отношение в музыке не созерцательное, а патологичиское. Если подобный любитель прослушает целый ряд музыкальных пиес одного я того же, скажем, беззаветно веселого характера – он совершенно поддастся одному этому впечатлению. Он уловит только то, что эти пиесы имеют общего между собою, т. е. беззаветную веселость, между тем как особенности каждого отдельного произведения, его художественная индивидуальность ускользнет от его понимания. Настоящий ценитель музвки, напротив того, будет так поглощен художественным строем данной пиесы, её музыкальными особенностями, делающими из неё самобытное произведение, что мало придаст значения тому или другому аффекту, который она выражает. Одностороннее воспринимание отвлеченных чувств, на место конкретных художественных образов, мы встречаем преимущественно относительно музыки. Одно освещение имеет аналогичное действие на нехудожественно-настроенных людей, которые часто так сильно поражены освещением в каком-нибудь ландшафте, что не умеют себе отдать отчета в достоинствах самой картины. Оно приводит их в восторженное состояние, производит на них такое же неясное впечатление (которое они считают чисто умственным), как музыкальные модуляция, когда звуки ростут или постепенно замирают, дрожат или гремят.
Подобные энтузиасты составляют самую благодарную часть публики, но они вместе с тем унижают достоинство искусства. Для них не существует эстетического различия между духовным и чувственный наслаждением. Они сани не сознают, что тонкая сигара, лакомое блюдо или теплая ванна на них действуют почти также, как и симфония или соната. Нельзя не сознаться, что музыка – то искусство, которое более всех остальных может служить посторонним целям. Лучшие музыкальные произведения могут служить украшением обедов и облегчать переваривание фазанов. Музыка – самое «навязчивое», но также и самое снисходительное искусство. Шарманку, играющую перед окном, нельзя не слышать, но даже симфонию Моцарта можно не слушать.
Нападки наши на подобную оценку музыки не касаются вовсе того наивного удовольствия, которое необразованная часть публики находить в созерцании внешней стороны каждого художественного произведения, между тем как идеальное его содержание доступно только развитому уму. Тут выясняется особенность отношения в музыке формы к содержанию. Обыкновенно называют чувство, одушевляющее музыкальное произведение, его художественным, а идею – его духовным содержанием, сочетание же звуков – его внешнею формой, или чувственной оболочкой того умственного содержания. Между тем, именно в этой внешней форме и заключается сущность художественного создания. В чисто конкретном сочетании звуков, а не в общем впечатлении отвлеченного чувства, заключается духовное содержание музыкального произведения. В противопоставленной чувству внешней форме состоит содержание музыки, состоит сама музыка, между тем как возбужденное чувство можно только назвать её действием.
С помощию сделанных выше замечаний, не трудно дать верную оценку так называемого «нравственнаго» действия музыки, на которое, также как на прежде упомянутое физиологическое действие, так напирали прежние теоретики.
Влияние музыки на наши чувства и даже на наши поступки (какое мы видим, например, в известном анекдоте о должнике, который своим пеньем побудил кредитора подарить ему весь долг) такое писание доказывает только нашу слабость, а не могущество музыки. Проявление в слушателе беспричинных и бесцельных аффектов, не стоящих ни в каком соотношения к его мыслям и к его воде, недостойно человеческого ума. У музыки нет подобного назначения, но находящийся в ней элемент чувства делает возможным это ложное понимание. На этом основаны первые нападки на музыку: что она расслабляет, изнеживает, обессиливает. Если музыку употреблять, как средство для возбуждения «неопределенных аффектов» или как «пищу чувствам», то эти упреки становятся справедливыми. Во всяком случае, нам кажется, что подобные нападки на влияние музыки более основательны, чем чрезмерное его восхваление. В такой же зависимости, в какой находится физиологическое действие музыки от болезненного раздражения нервной системы, стоит и нравственное влияние звуков от неразвития ума и характера. Как известно, музыка действует всего сильнее на дикарей. Это нисколько не останавливает наших критиков. Они обыкновенно начинают свои рассуждения с многочисленных примеров, в доказательство того, что «даже животныя» подчиняются могуществу звуков. Это совершенно справедливо: звук трубы воспламеняет коня к битве, скрипка одушевляет медведя к пляске, ловкий паук и мешковатый слон двигаются под такт любимых звуков. Но неужели подобное общество так лестно для энтузиастов музыки?
После примеров из жизни животных следуют исторические анекдоты, все более или менее во вкусе известного рассказа об Александре Македонском, который, доведенный до ярости игрой Тимофея, был укрощен пением Антигенида.
То обстоятельство, что подобные победы музыки над внутренным миром человека относятся лишь к древним временам, нас побуждает искать этому историческое объяснение.
Нет сомнения, что на древние народы музыка действовала более непосредственно, чем на новейшие поколения. Причина этому та, что человечество, стоящее на первых ступенях развития, ближе ко всему элементарному, чем впоследствии, когда оно достигло более высокой степени самосознания. В Греции к этому присоединялось и особенное состояние музыки: она не была искусством в теперешнем смысле слова. Звук и ритм действовали независимо друг от друга и не могли представить того богатства форм, которые мы находим теперь в музыке. Все, что ним известно о музыке того времени, дает право заключить, что её деятельность была только чувственная, но, при этой односторонности, весьма утонченная. Доказательством тому, что музыка (в теперешнем, художественном смысле слова) не существовала в классической древности, служит её полнейшее исчезновение с лица земли. Мы, разумеется, исключаем при этом, как чисто научный отдел музыки, глубокое изучение греками соотношений звуков.
Развитие мелодии лишь в границах речитатива, отсутствие гармонии и разнообразия музыкальных форм, очень понятное при древней звуковой системе, все это делало невозможной музыку, как искусство. Она и не была самостоятельным искусством в Греции, а служила лишь дополнением к танцам, поэзии и мимике. Поэтому, музыка действовала только своею чувственной и символической стороной. Сжатая в такие узкия рамки, она должна была довести эти стороны до крайней утонченности, как например, употребление ¼ тонов и энгармонических различий.
Такое усложненное отношение звуков встречало притом в слушателях более тонкую восприимчивость. Не говоря уже о тою, что у греков был слух, более способный к различию тонких интервалов, чем у нас, воспитанных на математически неверном строе фортепиан, нужно прибавить, что у им была также более сильная потребность возбуждать в себе разнообразные настроения посредством музыки, чем у нас, привыкших к объективному созерцанию искусных построений звуков, умеряющему их элементарное действие.
После всего сказанного, покажется понятным более интенсивное действие музыки в древности, а также и смысл рассказов, передающих вам специфическое влияние каждого тона. Объяснением этих рассказов должно послужить и строгое разделение при употреблении разных тонов для известных целей. Дорийский тон употреблялся для серьезных, большею частию религиозных напевов; фригийским одушевляли воинов на битву; лидийским воспевали горе и тоску, а эолийским – любовь и вино.
Через это преднамеренно-строгое распределение 4-х тонов (в применении к разным душевным состояниям) и через последовательное их соединение с подходящими по содержанию стихотворениями, греки невольно привыкли, при звуках музыкального произведения, возбуждать в себе настроение, соответствующее его тому. Вследствие одностороннего своего развития, музыка сделалась не самостоятельным искусством, а необходимым спутником остальных искусств и средством для политических, педагогических и других целей. Такому патологическому действию звуков мы противопоставляем чистое созерцание музыкального произведения, т. е. единственное чисто-художественное воспринимание. В прекрасному следует относиться активно, а не пассивно; не поддаваться его действию, а наслаждаться им.
Всего чаще упускают из виду главный фактор в душевном процессе, сопровождающем восприятие музыкального произведения; мы подразумеваем то удовлетворение, испытываемое слушателем, когда он следят за мыслями сочинителя и даже предугадывает их, часто находя оправданными свои предположения, а иногда приятно обманываясь в них. Только то музыкальное произведение может назваться художественным, которое вызывает и удовлетворяет подобную умственную деятельность – своего рода раздумье воображения. При слушании же музыки, эта деятельность потому особенно необходима, что произведения этого искусства не являются разом перед нами и, следовательно, требуют неутомимого внимания.
Исключительное преобладание верхнего голоса в итальянской музыке мы можем объяснить беспечно-ленивым характером этого народа, неспособного на умственную работу, необходимую, чтоб следить за искуссной тканью гармонических и контрапунктных сплетений.
Более или менее сильное действие музыки на чувства зависит, главным образок от степени художественного развития. При созерцании музыкального произведения, у непосвященных в искусство чувства играют главную роль, у образованного художника – самую незначительную. Чем сильнее в слушателе эстетическое настроение, тем более оно умеряет чисто элементарное. Поэтому мы видим, что известная аксиома: «мрачная музыка возбуждает в нас грусть, веселая – радость» совсем не верна.
Могли ли бы наслаждаться жизнию, еслиб каждый глухой «Requiem», каждый заунывный траурный марш, каждое слезливое адажио должны были в нас возбуждать горестные чувства?
Когда перед нами восстает, в своей ясной и трезвой красоте, истинно-художественное произведение, мы испытываем высокую радость, хотя бы в нем вылилось все горе человечества. Развеселые же финалы Верди или кадрили Мюзара далеко не всегда на нас наводят приятное настроение.
Не смотря на наше утверждение, что эстетическое наслаждение зависит от художественного достоинства музыкального произведения, нельзя не сознаться, что иногда простой призыв рога в горах, или тирольский припев (Iodler) нас приводят в больший восторг, чем любая симфония. Но в этом случае музыка становится на один ряд с красотами природы. Она действует не собственными звуковыми формами, а сливается в нашем чувстве с общим настроением окружающего ландшафта. Лишь только музыка употребляется для возбуждения в нас того или другого настроения, как подспорье, как декорация, она перестает быть чистым искусством. Так легко смешивают элементарное в музыке с её художественной красотой, принимая, таким образом, часть за целое, что из этого возникают нескончаемые недоразумения. Большая часть мнений, выраженных о музыке, относятся в сущности не к ней самой, а к чувственному действию её звуков.
Когда Генрих IV, у Шексиира, перед самою смертью требует музыки, то он, конечно, не желает следить за художественной красотой произведения, а только хочет убаюкивать себя сладостными звуками. То же самое можно сказать и о Порции с Бассаино, в оценке выбора между тремя ящичками.
Во всех этих случаях дело не в художественном достоинстве музыки, а в общем её настроении. При таком равнодушии к характерным особенностям каждого произведения, преобладают впечатления чисто звуковые, а не музыкальные. Тот, по истине, слушает музыку, кому она дает определенный художественный образ, а не действует только на его настроение. Неоспоримое действие музыки на наши душевные состояния и его высокое психологическое и физиологическое значение не должны мешать нашей критике различать в нем художественный элемент от чувственного.
Весьма поучительным примером такой путаницы понятий и слов являются нам «музыкальные извержения» (Musikalische Explostonen) Беттины Арним, как называет Гёте её письма о музыке. В убеждении, что она говорит о музыке, она распространяется постоянно о загадочном действии этого искусства на нее и преднамеренно устраняет всякое разумное к нему отношение.
В каждом музыкальном произведении она видит какую-то подавляющую тайну природы, а не творение человеческого ума; «музыкой» она называет бесчисленные явления, которые, пожалуй, имеют с музыкой какую-нибудь одну общую сторону – хоть благозвучие, ритм, стройность и т. п. Немудрено, что она, в своем музыкальном опьянении, доходит до того, что называет не только Гёте, но и Христа – великими музыкантами.
Мы не оспариваем права употреблять в речи известные метафоры и поэтические вольности. Мы понимаем, почему Аристофан, в своих «Осах», называет тонко образованный ум «мудрым и музыкальным», мы находим метким отзыв графа Рейнгардта об Эденшлегере, что у него «музыкальные глаза». Серьезные же исследования не должны придавать музыке иного смысла, кроме того, который ей придает эстетика, иначе окончательно подкашиваются и без того шаткия основания этой науки.
VI
Все искусства обязаны природе в двух отношениях: она дает им, во-первых, сырой материал, а во-вторых, известную долю прекрасного, годную для художественной обработки. Постараемся перечислить, что природа дает собственно музыке.
Металлы, дерево, кожи и кишки зверей, – это сырой материал, необходимый человеку для произведения первого основания музыки – чистого звука измеримой высоты. Он – основа мелодии и гармония, двух главных факторов музыкального искусства. Ни мелодия, ни гармония не встречаются в природе, а суть произведения человеческого ума. Звуковые явления природы лишены всякого разумного отношения в последовательности звуков, их составляющих, т. е. не представляют собою мелодии и не могут быть воспроизведены на нашей гамме. Без мелодии же немыслимо дальнейшее развитие музыкального искусства.

