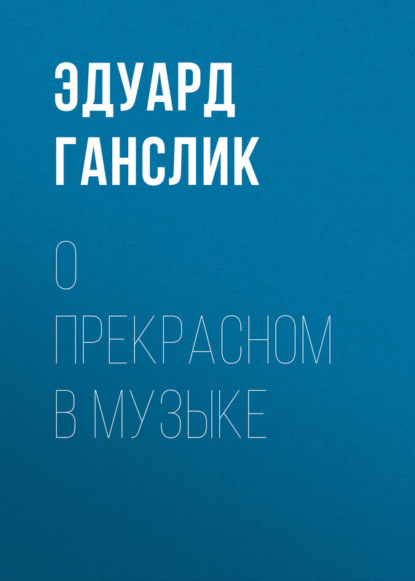 Полная версия
Полная версияО прекрасном в музыке
Иного содержания, кроме вышеизложенного, мы не найдем в этой теме; еще менее удастся нам назвать то чувство, которое она должна возбуждать в слушателях. Такой мелочно-строгий анализ превращает цветущее тело в скелет, но за то, вместе с красотой, убивает возможность ложных толкований.
К подобным же выводам мы придем, разбирая всякий другой мотив инструментальной музыки. Многочисленный разряд знатоков этого искусства ставит в серьезный упрек т. п. «классической музыке», что она пренебрегает аффектами. Они прямо заявляют, что во всех 48-ми фугах и прелюдиях I. С. Баха (Wohltemperirtes Clavier) невозможно доискаться чувства, дающего им содержание. Прекрасно, – это одно может служить доказательством, что музыка не должна обязательно возбуждать или выражать какие либо чувства. В противном случае, не имела бы смысла вся обширная область «фигуральной» музыки (Figuralmusik): но когда, для подтверждения теории, приходится вычеркивать целые отрасли искусства, с твердыми историческими и эстетическими основами, можно смело сказать, что теория ложна.
Но воззрения, опровергаемые нами, так вошли в плоть и кровь всех эстетических исследований, что приходится искоренять и дальнейшие их разветвления. Сюда относится мнение, что можно изображать звуками предметы видимые или невидимые, но недоступные слуху. Когда речь идет о т. п. «живописи звуками», ученые критики мудро оговариваются, что музыка не в состоянии нам передать само явление, а только чувства, им возбуждаемые. На деле же выходить наоборот. Музыка может подражать внешнему явлению, но никогда ей не удастся передать определенного чувства, которое оно в нас вызывает. Мягкое падение снежных хлопьев, порханье птиц, восхождение солнца можно изобразить звуками, только возбуждая в слушателе аналогичные впечатления, динамически сходные с вышеприведенными явлениями. Высота, сила, быстрота, мерная последовательность звуков могут возбудить в них слуховые образы, до некоторой степени напоминающие впечатления, воспринимаемые другими чувствами. Так как между движением во времени и в пространстве, между окраской, тонкостью, величиной предмета – с одной стороны, и высотой, тэмбром, силой звука – с другой, существует действительная, а не условная аналогия, то возможно, в некоторой мере, предметы изображать звуками; но все сложные оттенки чувства, которые эти предметы в нас могут пробудить, музыке положительно недоступны.
Точно также отрицательно нам придется отнестись к мнению, что музыка хотя выражает чувства, но только неопределенные. Но чувство неопределенное не может служить художественным содержанием; искусство прежде всего имеет дело с формой; первая его задача состоит в обособлении, в индивидуализации, в выделении определенного из неопределенного, частного из общего.
Мы с намерением ссылаемся на примеры из инструментальной музыки: она одна являет нам музыкальное искусство в его чистоте. То, что недоступно музыке инструментальной, недоступно музыке вообще. Какой бы предпочтение не отдавали иные любители музыке вокальной, они не могут отрицать, что в нее входят и посторонние элементы, что действие её основывается не на одном сочетании звуков. Говоря о содержании музыки, мы даже оставляем в стороне все произведения, написанные на определенную программу или даже с тенденциозными заглавиями. Соединение музыки с поэзией может усилить могущество первой, но не расширить её границ.
Вокальная музыка нам представляет слитное произведение, из которого уже нет возможности выделить тот или другой фактор. Когда речь. идет о действии поэзии, никому и в голову не придет принести в пример оперу. Такой же разборчивости и определительности требует и музыкальная эстетика.
Вокальная музыка только окрашивает рисунок текста. Она может придать почти неотразимую силу словам посредственного стихотворения, по, тем не менее, содержание дано словами, а не звуками. Рисунком, а не колоритом определяется изображаемый предмет. Обращаемся к самому слушателю и к его способности отвлечения. Пусть он себе вообразит любую драматическую арию отдельно от её слов. При этих условиях в мелодии, выражающей, напр., гнев и ненависть, вряд ли можно будет найти что-нибудь иное, кроме сильного душевного движения; к ней точно также подойдут слова страстной любви, т. е. прямая противуположность первоначального текста.
В то время, когда знаменитая ария Орфея:
«J'ai perdu mon Eurydice,Rien n'égale mon malheur»доводила до слёз тысячи слушателей (в том числе таких знатоков, как Руссо), один из современников Глюка, Бойэ (Boyé), весьма справедливо заметил, что, без малейшего ущерба, даже с некоторой выгодой для мелодии, можно было бы слова заменить следующими:
«J'ai trouvé mon Eurydice,Rien n'égale mon bonheur».Конечно, тут вина отчасти лежит и на композиторе; музыка может гораздо ближе подойти к выражению печали и горести, но мы выбрали этот пример из сотни других, во-первых, потому, что тут дело идет о художнике, который ставил себе задачей – по возможности соображать музыку с текстом, и, во-вторых, потому, что тут несколько поколений видели в этой мелодии выражение глубочайшей горести, изображенной в её словах.
Но я в других, гораздо более законченных и характерных произведениях мы, независимо от текста, только смутно можем догадываться о чувстве, которое они выражают. Винтерфельд доказал, что Гендель заимствовал многие из замечательнейших и величавейших мелодий своего «Мессии» из любовных дуэтов, которые он сочинил (1711-1712) для принцессы Каролины Ганноверской на слова мадригалов Мауро Ортензио. Чтоб в этом убедиться, стоит сравнить 2-й дуэт, начинающийся словами:
«No, di voi non vò fidarmiCieco amor, crudel beltаTroppo siete menzognereLusinghiere deità!»с знаменитым хором «Denn uns ist eiu Kind geboren». Мотив третьей строфы этого мадригала «So per prova i vostri inganni» мы встречаем без изменений в хоре II части «Мессии»: «Wie Schafe gehen». Мадригал № 113 (дуэт] для сопрано и для альта) почти не разнится от дуэта в III части «Мессии»; первоначальные же его слова были:
«Se tu non lasci amore,Mio cor, ti pentirai,Lo so ben io!»Из этого явствует, что вокальная музыка, непригодная для определения теории, и на практике не может опровергать заключений, выведенных нами из разбора музыки инструментальной.
Известный долголетний спор «глюкистов» и «пиччинистов» потому именно имеет важное значение в истории искусства, что впервые поднял вопрос о самостоятельных задачах музыки, впервые выяснил противоречие между составными элементами оперы – музыкальным и драматическим[1]. К сожалению, спор велся не довольно сознательно и научно-строго, чтобы дать положительные выводы. Правда, что даровитейшие люди того времени, Сюар и аббат Арно – на стороне Глюка, Мармонтель и Ли-Гарц – против него, несколько раз пытались возвыситься от частной критики его произведений до принципиального вопроса об отношении драматического искусства к музыкальному; но они к нему обращались случайно, видя в нем одну из особенностей оперы, а не основное её условие. Они и не догадывались, что от решения этого вопроса зависит само существование оперы. Однако, любопытно видеть, как близко подходили к правильной его постановке некоторые из противников Глюка. Так, Ла-Гарп в своем «Journal de Politique et de Littérature», за 5 октября 1777 г., говорит, по поводу «Альцесты» Глюка:
«Мне возразят, что неестественно петь арию в минуту высшего разгара страсти, что через это замедляется ход действия и уничтожается эффект, – Я эти возражения считаю вполне несостоятельными. Есля уже допускать пение, нужно от него требовать высшего совершенства; разве более естественно петь плохо, чем петь хорошо? Все искусства носят в себе долю условного. Я в оперу иду, чтоб слушать музыку. Мне хорошо известно, что Альцеста не прощалась с Адметом, распевая арию; но, так как Альцеста является на театре для того, чтобы петь, если она выражает свое горе и свою любовь мелодическими звуками, я буду наслаждаться её пеньем и сочувствовать её несчастию».
Но сам Ла-Гарп не сознавал, на какую твердую почву он ступил. Немного спустя, он осуждает дуэт из «Ифигении» между Ахиллесом я Агамемноном на том основании, что «несовместно с достоинством этих двух героев говорить за-раз и друг друга перебивать». Этими словами он бессознательно отрекся от точки зрения музыкально-прекрасного и признал основной принцип своего противника.
Но если этот принцип проводить последовательно, если в опере постоянно подчинять музыкальное искусство драматическому, мы этим самым уничтожаем оперу и неизбежно возвращаемся к простой драме. В художественной практике эта истина часто брала верх над противоречащими ей теориями. Строгий драматист Глюк хотя и отстаивал лжеучение, что оперная музыка должна быть только идеализованною декламацией, однако, на деле, почти всегда следовал внушениям своей музыкальной натуры, что и составляет великое достоинство его произведений. Тоже самое можно сказать и о Рихарде Вагнере. Для нас важно только опровергнуть теоретическое положение, высказанное Вагнеров в первом томе его сочинения «Опера и Драма». Вот подлинные его слова: «Ошибка оперы, как отдельного вида музыкального искусства, состоит в том, что обыкновенно средство (музыку) принимают за цель, а цель (драма) становится средством». – До нашему же мнению, опера, в которой музыка только служит подспорьем драматическому выражению, совершенно лишена художественного смысла.
Как объяснить, что в любой ария малейшее изменение в мотиве, нисколько не ослабляющее драматической выразительности слов, совершенно уничтожает красоту мелодии? С точки зрения теория, ставящей чувство в основу музыки, это было бы невозможно. В чем же искать принципа музыкальной красоты, если устранить чувства и их выражение?
В совершенно независимом элементе, которым мы сейчас займемся.
III
До сих пор мы разбирали только отрицательную сторону вопроса и старались опровергнуть распространенное мнение, что эстетическое содержание музыки состоит в изображении чувств.
Теперь мы должны заняться вопросом о сущности прекрасного в музыкальных произведениях.
Это прекрасное есть исключительно музыкальное. Оно заключается в самих звуках и их художественном сочетании и, таким образом, независимо от содержания, влагаемого извне. Гармоническое влияние звуков, правильная смена одних другими, переливы и переходы их от сильных я полных к слабым и замирающим – вот то, что воспринимается нами, как прекрасное.
Основной элемент музыки есть созвучие, необходимое условие её существования – ритм; ритм вообще, как соразмерность и стройность в построении, я в частности, как взаимно пропорциональное движение во времени. Неисчерпаемо богатый материал, из которого создает художник, заключается в совокупности всех звуков, при взаимном сочетании дающих мелодию, гармонию и ритм. Основу музыкальной красоты представляет мелодия; бесконечными превращениями, переходами, переливами, ослабеваниями и усилениями звуков, гармония дает вечно новые настроения; обеими вместе движет ритм, этот пульс музыкальной жизни, я всему этому дает колорит разнообразие тембра. Этими материалами пользуется художник для выражения музыкальных идей. Вполне развитая я выраженная, музыкальная идея уже сама по себе есть прекрасное, существует самостоятельно, а совсем не средство только или материал для выражения чувств и мыслей.
Содержание музыки составляют звуковые формы. Каким образом музыка может изображать только прекрасные формы, без представления содержания, определенного аффекта, нам может объяснить, при сравнении с пластическими искусствами, один отдел орнаментики – арабески. Перед вашими глазами разбросаны тысячи линий, то мягко опускающахся, то смело стремящихся вверх; одна сталкивается с другою, снова отделяется от неё, капризно извивается и, в тоже время, строго соответствует другим. Эти частности, изящные сами по себе, хотя с первого взгляда несоразмерные, составляют одно художественное целое. Представьте себе теперь, что вы видите арабеску, не высеченную из камня, а живую, непрерывно образующуюся; эта живая арабеска будет несравненно привлекательнее мертвой, неподвижной; разве впечатление от такого произведения не будет близко к тому, которое мы получаем от музыкальной пиесы? Каждого из нас, в детстве, занимала, конечно, игра фигур и красок в калейдоскопе. Музыка – такой же калейдоскоп, только неизмеримо более изящный и сложный. Она также представляет постоянную смену форм и цветов, но все в строгой соразмерности и симметрии. Главное отличие то, что этот калейдоскоп звуков есть непосредственное произведение художественно-творческого гения, а калейдоскоп цветов – только забавная механическая игрушка.
Если какой-нибудь ценитель музыки найдет, что искусство унижается аналогиями, подобно только-что приведенной, то мы возразим, что тут весь вопрос в том, верна ли аналогия. Мы выбрали сравнение с калейдоскопом потому, что оно поясняет присущее музыке свойство движения, развития во времени. Конечно, для музыкально-прекрасного можно подыскать и другие, более достойные и высокие аналогии, напр., в архитектурных произведениях, в человеческом теле, в ландшафте, которые также обладают красотой форм и очертаний, хотя и неподвижной, неизменчивой.
Если до сих пор не хотят признать, что красота заключается в музыкальных формах, то причина этому лежит в ложном понимании чувственного, которому старые эстетики противопоставляют нравственное, Гегель – идею. Каждое искусство созидается из чувственных элементов и пользуется ими для своего развития. Теория, признающая задачей музыки изображение и возбуждение чувств, не допускает этого и, пренебрегая чисто слуховыми восприятиями, прямо переходит к чувству. Музыка создана для сердца, а не для уха, говорит она.
Конечно, Бетговен писал свои произведения, не имея в виду того, что они называют ухом, т. е. лабиринта или барабанной перепонки, но воображение, которое наслаждается звуковыми фигурами, прелестной мелодией, воспринимает их посредством слуховых органов.
Говорить о самостоятельной красоте музыки, изображать словами это «исключительно музыкальное» чрезвычайно трудно. Так как содержание музыки заключается в самих звуках и их группировке, а не берется извне, то описывать его можно или сухими, техническими выражениями, или поэтическими сравнениями. Её царство, в самом деде, «не от мира сего». Все поэтические описания, характеристики, сравнения какого-нибудь музыкального произведения или иносказательны или ошибочны. То, что для произведений других искусств – описание, для музыки будит уже метафорой.
Но нельзя понимать под этим исключительно-музыкальным только акустическую красоту, пропорциональность, симметрию звуков, еще менее возможно смотреть на него только как на приятное щекотание уха. Мы ничуть не думаем исключать духовного содержания, постоянно указывая на музыкальную красоту; мы не признаем возможности красоты без этого содержания. Говоря, что. прекрасное в музыке существенно заключается в звуках, мы этим самым только указываем на тесную связь духовного содержания с этими звуковыми формами. Понятие «формы» имеет в музыке особое значение. Формы, образуемые звуками, не пустые, а, так сказать, наполненные, не простое ограничение пространства, а проявление и выражение духа. Таким образом, музыка такое же изображение, как и арабески, но содержания его мы не можем выразить словаки и подвести под наши общие понятия и определения. В музыке есть свой смысл, своя логика и последовательность, но музыкальные. Музыка – особый язык, который мы понимаем и на котором говорим, но которого мы не в состоянии перенести. Мы говорим о мысли известного музыкального произведения, и опытное суждение может здесь, как и в обыкновенной речи, отличить стройную мысль от пустой фразы. Логически законченную группу звуков мы называем предложением (Satz). Мы чувствуем здесь, как во всяком логически построенном периоде, где он начинается и где оканчивается, хотя содержание обоих вполне несоизмеримо.
Разумное начало, руководящее образованием и развитием музыкальных форм, опирается на основных, естественных законах, которые природа вложила в организацию человека и во внешния явления звука. Основной закон гармонической прогрессии, хотя сам по себе очень жало выясненный, дает возможность объяснить многие музыкальные отношения.
Все музыкальные элементы находятся в основанных на естественных законах тесной связи и сродстве между собою. Эта связь, обнимающая и ритм, и гармонию, и мелодию, требует от музыкальных произведений строгого подчинения себе. Все, что противоречит ей, не может быть прекрасным. Она понятна, хотя может быть инстинктивно, а не в строго-научной формуле, каждому развитому уму. Она непосредственно отличит естественное и разумное от неестественного, бессмысленного, хотя логические понятия ни дают нам для этого никакого критерия. Этою внутреннею разумностью, присущею системе звуков, обусловливается дальнейшая возможность выражать положительно прекрасное. Своим богатством, разнообразием и гибкостью музыкальный материал представляет широкое поле деятельности для творческой фантазии. Так как сочетание звуков, делающее на нас впечатление музыкально-прекрасного, является не следствием механического их подбора, а результатом свободного творчества фантазии художника, хо все её особенности, вся духовная сила сообщается произведению и налагает на него свою печать. Как выражение деятельности мыслящего и чувствующего существа, конечно, и композиция будет осмыслена и прочувствована. От каждого музыкального произведения мы будем требовать этого духовного содержания, но оно должно заключаться в самых звуковых сочетаниях. Наше воззрение на мысль и чувство, заключающиеся в музыкальном произведении, относятся к общераспространенному мнению, как понятия имманентности и трансцендентности между собою.
Задача каждого искусства – выражать идеи, зародившиеся в фантазии художника. Эти идеи в музыке суть чисто звуковые, недоступные рассудочному пониманию, передаваемые только звуками. Композитор работает не для того, чтобы музыкой выразить известную страсть, а чтобы передать известную мелодию, которая народилась в тех тайниках его души, куда не может проникнуть человеческий взор. Созданная мелодия нас пленяет сама по себе, как арабеска, как красота произведений природы, как дерево или цветок, а не потому, что она более или менее верно выражает какое либо чувство, взятое извне. Нет теории более ошибочной, как та, которая разделяет музыкальные произведения на произведения с содержанием и без содержания. Известная музыкальная мысль или глубока или пошла уже сама по себе. Чудный мотив, полный силы и достоинства, становится грубым или бесцветным, если переменить в нем две-три ноты. Мы с полным правом называем такую-то пиесу величественной, грациозной, продуманной или бессмысленной, тривиальной; но все эти выражения означают только музыкальный характер данного сочинения. Для характеристики известного мотива мы выбираем часто сравнения из нашей психической жизни, как-то: гордый, нежный, пылкий, стремительный и т. п. До мы можем их точно также взять из другого круга явлений и назвать музыку свежей, туманной, холодной и т. п. Таким образом, чувство служить только сравнением для объяснения характера известного мотива.
Точное исследование музыкальной темы может показать нам несколько ближайших причин, от которых зависит выражение музыкального произведения. Каждый, порознь взятый музыкальный элемент (т. е. каждый тэмбр, ритм, интервал, аккорд) имеет свою особую физиономию, действует по своему. Одна и та же тема носит различный характер в трезвучиях и в аккордах сексты. Развитие мотива в септиме отличается от того же мотива, написанного в сексте. Различный ритм, аккомпанимент, различный тэмбр инструментов совершенно изменяют общий колорит. Одним словом, каждый отдельный музыкальный фактор неизбежно обусловливает то или другое выражение, способствует тому, что произведение действует на слушателя так, а не иначе. То, что музыку Галеви делает странною, музыку Обера – грациозною, что производит те особенности, по которым мы тотчас узнаем Мендельсона, Шпора, – все это можно объяснить чисто музыкальными отношениями, без ссылки на загадочное «чувство». Почему аккорды квинт-сексты, сжатые диатонические темы Мендельсона, хроматика и энгармоника Шпора, короткий двучленный ритм Обера и т. д. производят именно это, а не иное впечатление – на этот вопрос не может, конечно, ответить ни физиология, ни психология.
Если отыскивать ближайшую, определяющую причину (а это для искусства всего важнее), то, конечно, страстное впечатление, производимое известными мотивами, зависит не от предполагаемого глубокого страдания композитора, а от чрезмерно больших интервалов, не от волнения его души, а от тремоло. Связь душевного состояния с этими внешними выражениями, конечно, нельзя игнорировать, напротив, ее нужно исследовать, но всегда помнить, что для научного исследования доступны только эти объективные, музыкальные факторы, а не предполагаемое настроение духа композитора.
Возможно, что ваше суждение будет и верно, если вы станете объяснять впечатление музыкальной пиесы этим настроением, но только вы тогда, так сказать, сделаете скачек через самый важный член дедукции, т. е. самую музыку.
Практическое знание свойств и качеств каждого музыкального элемента или инстинктивно или сознательно присуще каждому талантливому композитору. Но для научного объяснения их действия, впечатления, производимого ими, необходимо теоретическое знание этих свойств – как целой группы элементов, так и каждого порознь. Определенное впечатление, производимое мелодией, не «таинственное, необъяснимое чудо», которое мы только «смутно чувствуем», а необходимое следствие сочетания известных музыкальных факторов. Сжатый или широкий ритм, диатоническое или хроматическое развитие темы, – все это имеет свою характеристическую физиономию, все это действует на нас по своему. Образованный музыкант получит гораздо более ясное представление о выражении известной пиесы, если ему скажут, что в ней преобладают уменьшенные аккорды септимы и тремоло, чем от цветистого описания чувств, наполняющих расскащика при её исполнении.
Исследование природы каждого музыкального элемента и его связи с определенными впечатлениями, далее, подведение этих отдельных наблюдений под общие законы составило бы основания философия музыки, к чему стремятся многие писатели, не объясняя хорошенько, что они под этим подразумевают. Но психическое и физическое воздействие отдельного аккорда, ритма, интервала никогда не будет объяснено, если станут говорить: то-то означает красный цвет, это – зеленый, или: то-то означает надежду, это – негодование и т. п. Научное понимание этих явлений возможно только при подведении отдельных музыкальных качеств под общие эстетические категории, а этих последних под один высший принцип. Если бы, таким образом, каждый музыкальный фактор был объяснен порознь, нужно бы было показать, как они определяют и изменяют друг друга в различных комбинациях.
Многие из ученых музыкантов приводят гармонию и контрапунктный аккомпанимент в особую связь с содержанием произведений. Очевидно, что это очень поверхностное мнение. Мелодию определили, как вдохновение гения, и приписали ей способность влиять на чувства, при этом итальянцы удостоились милостивой похвалы; мелодии противопоставили гармонию и, считая ее результатом изучения и размышления, навязали ей задачу выражать духовное содержание. Удивительно, их могли так долго довольствоваться такими туманными воззрениями. Доля правды, конечно, заключается в этих взглядах, но они совершенно неверны, если видеть в этом общий и непреложный закон. Гармония и мелодия одновременно, рука об руку, возникают в уме композитора. Они не подчинены одна другой и не исключают одна другую. То они обе идут рядом, то уступают место одна другой, и в каждом из этих случаев может быть достигнута высшая степень музыкальной красоты. Разве гармонией (которой тут вовсе и нет) обусловливается выражение глубокой мысли в увертюре «Кориолана» Бетговена или в «Гебридах» Мендельсона? Разве тема Россини «О Матильда» или какая-нибудь неаполитанская ариэтка сделаются содержательнее, если подобрать к ним ряд сложных аккордов или «basso continuo». Нет, мелодия и гармония создаются вместе, с известным ритмом и для известных инструментов. Духовное содержание можно приписывать только сумме этих факторов, и потому изменение одного из них портит впечатление целого. Иногда преобладание мелодии или гармонии только усиливает впечатление, и было бы педантизмом видеть в ином случае все достоинство произведения только в аккордах, в другом же их отсутствию приписывать все его недостатки. Ведь камелия не имеет запаха, лилия не окрашена яркими цветами, роза действует на обоняние и на зрение – и, однако, каждый из этих цветков прекрасен.

