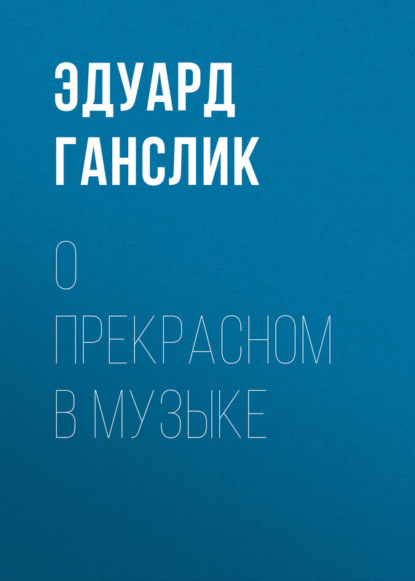 Полная версия
Полная версияО прекрасном в музыке
И так, философия музыки должна бы исследовать каждый музыкальный элемент и психическое влияние, им производимое, а также связь этих элементов между собою. Это – задача в высшей степени трудная, но разрешимая, в известной мер; нельзя ожидать от «точной музыки» такого же совершенства, какого достигли химия или физика. Акт музыкального творчества дает нам возможность глубже заглянуть в особенности принципа музыкальной красоты. Музыкальная идея возникает в воображении композитора в простой форме, он развивает ее далее, обогащая разнообразием новых звуковых сочетаний, и незаметно перед ним выростает образ целого произведения в его главных формах. При дальнейшей отделке, он критически рассматривает, расширяет, изменяет только частности. О представлении заранее определенного содержания художник не думает. Если же он становится на эту ложную точку зрения, то является перевод определенной программы в звуки, которые остаются непонятными без этой программы. Мы не хотим уничтожить блестящего таланта Берлиоза, если приведем его здесь в пример. За ним следует Лист, с своими несравненно более слабыми «Симфоническими поэмами».
Подобно тому, как из одинаковых кусков мрамора могут быть изваяны прелестные и отвратительные, грубые фигуры, там и из звуков создается увертюра Бетговена или Верди. В чем их различие? Может быть, одна представляет более высокие чувства и выражает их правильнее? Нет, различие только в том, что она представляет более прекрасные формы. У одного композитора тема блестит умом, у другого она отличается пошлостью; у одного разнообразная и оригинальная гармония, у другого она бедна; ритм у одного полон жизни и движения, у другого он сух и мертв, как военный сигнал.
Ни в одном искусстве формы выражения не изменяются так быстро, как в музыке. Модуляции, каденцы, развитие интервалов, переходы гармонии изнашиваются на столько, в течении 50-ти, даже 30-ти лет, что ни один талантливый композитор не будет более ими пользоваться, а будет стремиться к созданию новых и оригинальных. О многих композициях, которые в свое время стояли выше общего уровня, теперь можно только сказать, что когда-то они были хороши. Воображение талантливого композитора выберет из всех возможных комбинаций звуков только самые изящные; звуковые образы будут результатом свободного творчества и, вместе с тем, связаны внутреннею необходимостью. Такие произведения мы, не задумываясь, назовем умными, содержательными, глубокими. Этим опровергается непонятный взгляд Улыбышева, который говорит, что «в инструментальной музыке нельзя искать определенного смысла, так как для композитора смысл заключается единственно в известном приложении его музыки к определенной программе».
С нашей точки зрения было бы совершенно правильно назвать знаменитое «Dis» или нисходящие унисоны в «Аллегро» увертюры «Дон-Жуана» полными глубокого смысла, но только ни в каком случае первое не показывает (как думает Улыбышев) «враждебного отношения Дон-Жуана ко всему человеческому роду» и второе не представляет отцов, мужей, братьев, любовников и женщин, соблазненных Дон-Жуаном. Как ни ошибочны подобные толкования сами по себе, они делаются вдвойне несправедливыми по отношению к Моцарту, который обладал самою музыкальною натурой, какую только показывает нам история искусства, превращая в музыку все, до чего только касался. В симфонии «G-moll» Улыбышев видит историю страстной любви, представленной в четырех различных фазах. Симфония «G-moll» только музыка, и больше ничего – этого довольно.
Музыкальными отношениями обусловливается не только красота известного произведения, но на них основываются законы его конструкции. Относительно этого предмета существует много шатких, ошибочных взглядов, из которых мы здесь упомянем только об одном. Эта распространенная теория сонаты и симфонии, возникшая на основании сентиментального воззрения на музыку. Композитор, говорят, должен в отдельных частях сонаты изобразить четыре различные душевные состояния, которые однако находятся в связи между собою. Чтобы объяснить действительно существующую связь этих частей и различные действия, ими производимые, слушателя принуждают влагать в них собственные чувства, как содержание. Такое объяснение иногда подходит, очень часто не соответствует действительности, но никогда не носит характера необходимости. Если же сказать, что четыре части соединены в одно целое и, по музыкальным законам, усиливают и оттеняют друг друга, то это будет верно во всех случаях. Часто приводят, что Бетговен, задумывая некоторые из своих композиций, имел в виду известные события или душевные состояния. Но Бетговен, как и всякий другой композитор, пользовался ими только как вспомогательными средствами, чтобы легче выдержать музыкальное единство настроения. Это именно единство органически связывает четыре части сонаты, а не какие либо внешния представления. Для нас безразлично, ставил ли себе Бетговен определенные задачи для каждого своего сочинения, – мы их не знаем, они потому не существенны для оценки самого произведения. Оно само, без дальнейших комментарий, дает все, что в нем заключается. Если отдельные части его делают на нас впечатление целого, то причина должна лежать в чисто-музыкальных отношениях[2].
Возможные недоразумения мы постараемся отклонить тем, что с трех сторон установим наши понятия о музыкально-прекрасном. Музыкально-прекрасное, в усвоенном нами смысле, не ограничивается только «классическим», не указывает на его превосходство над «романтическим». Оно одинаково приложимо к Баху, как и к Бетговену, к Моцарту и к Шуману. Наши положения отнюдь не имеют характера исключительности и односторонности. Все настоящее исследование рассматривает не то, что должно быть, а то, что есть; оно не дает нам возможности вывести определенный идеал музыкально-прекрасного, а только показывает, что есть прекрасного в каждом произведении, как бы несходны они ни были. В последнее время начали рассматривать художественные произведения в связи с идеями того времени, к которому они принадлежат. Этой связи нельзя отрицать и в музыке. Как проявление человеческого духа, она должна иметь связь с остальными его деятельностями: с созданиями поэзии и пластических искусств, политическим, социальным и научным состоянием своего времени, наконец, с событиями в жизни самого автора и с его убеждениями. Мы имеем полное право отыскивать и преследовать эту связь по отношению к отдельным композиторам и их произведениям. Однако, нужно всегда помнить, что подобное исследование зависимости – дело истории искусства, а не эстетики. Как ни необходима является, с точки зрения метода, связь история искусства с эстетикой, однако каждая из этих наук должна сохранить свою независимость, не смешиваться с другой.
Пусть историк, обобщая художественные явления, видит в Спонтини «выражение французского императорства», в Россини «политическую реставрации», – эстетик должен придерживаться произведений этих композиторов, исследовать, что в этих произведениях прекрасно и почему. Эстетическое исследование не знает и не хочет знать о личных обстоятельствах и исторической обстановке композитора; это будет слушать только то, верить только тому, что высказывает само произведение. Оно увидят в симфониях Бетговена, не зная даже имени и биографии автора, борьбу, неудовлетворенные стремления, энергически, сильный характер, однако оно никогда не прочтет в этих самых произведениях, что он был республиканец, глух, не женат и подобные черты, о которых нам сообщает история искусства. Сравнять мировоззрение Баха, Моцарта, Гайдена, и различием их объяснить контраста их композиций, было бы в высшей степени завлекательною задачей; однако, тут возможно тем более ошибок, чем строже мы будем доказывать причинную связь. Легко можно случайные влияния представить как внутреннюю необходимость и толковать непереводимый язык звуков так, как этого хочешь, или как это удобнее.
Гегель также впал в ошибку, говоря о музыке: он незаметно смешал свою историческую точку зрения с чисто эстетической и приписывает музыке такие свойства, каких она сама по себе вовсе не имеет. Характер каждой музыкальной пиесы имеет, конечно, связь с характером её автора, однако она остается неизвестной эстетику; – идея необходимой связи всех явлений может быть доведена до каррикатурности, если мы будем прилагать ее конкретно во всех случаях. В настоящее время нужно истинное геройство, чтобы выступить против этого направления и сказать, что историческое понимание я эстетическое суждение – две вещи разные. С объективной точки зрения, несомненно, во-первых, что характер выражения в различных произведениях и школах обусловливается различным расположением музыкальных элементов, а во-вторых, что вся красота известной композиции, будь это самая строгая фуга Баха или мечтательный ноктюрн Шопена – красота исключительно музыкальная.
Музыкально-прекрасное не может также отождествляться с архитектоническим; последнее представляет только один из элементов первого.
Многие эстетики объясняют музыкальное наслаждение удовольствием от восприятия правильного и симметричного. Но красота не может состоять только в одной правильности и симметрии. Самая пошлая тема может быть развита вполне симметрично. Симметрия есть только понятие об отношении. Правильное расположение бессмысленных, избитых частей можно видеть в самых плохих композициях. Музыкальный смысл требует всегда новых симметрических образов.
Для полноты следует еще прибавить, что музыкальная красота не имеет дела с математикой. Представления о роди математики в музыкальных произведениях у многих очень смелые. Недовольные тем, что колебания звуков, расстояние интервалов, созвучия и диссонансы могут быть сведены на математические отношения, многие думают, что и красота всякого музыкального произведения обусловливается математикой. Изучение гармонии и контрапункта, в глазах несведущих, представляется какой-то кабалистикой, которая дает правила для «вычисления» композиции.
Если математика и дает ключ для изучения физической стороны музыки, то не нужно слишком преувеличивать её значения для готового произведения. Ни в одной пиесе, будь она хороша или дурна, нет математических рассчетов. Творения фантазии вовсе не похожи на арифметические задачи. Все опыты с монохордом, звуковые фигуры Хладни, численные отношения интервалов сюда не относятся; область эстетики начинается только там, где исчезает значение этих элементарных отношений. Я не понимаю слов Эрштедта (Gott in der Natur): «Достанет ли целой жизни многих математиков, чтобы вычислит все красоты Моцартовой симфонии?» Что же нужно вычислить? Разве отношение колебаний каждого тона к следующему? Или относительные длины отдельных периодов? – Мысль, дух делает из музыки искусство и ставит ее выше простого физического эксперимента, а мысль не подчиняется вычислению. Математика играет такую же роль в произведениях музыкальных, как и в произведениях других искусств. Математика направляет резец ваятеля, ею же руководствуется архитектор в своих постройках.
Часто сравнивали также музыку с речью и хотели применить к ней законы языка. Родство пения с речью прямо бросается в глаза, если принять во внимание физиологические условия обоих, или их общее значение для выражения внутреннего состояния человеческим голосом. Аналогичные отношения здесь слишком очевидны, чтобы стоило разбирать их подробнее. Там, где идет дело о выражении душевного движения, пение, конечно, будет подражать вибрациям голоса при обыкновенной речи. Что человек в порыве страсти возвышает голос, между тем, как спокойно говорящий проповедник понижает его и т. п., не должно быть, конечно, оставлено без внимания, особенно композитором, пишущим оперу. Таких аналогий показалось однако надо и потому на самую музыку смотрят, как на неопределенный, но более тонкий язык, и хотят вывести для неё законы красоты из природы речи. Мы думаем, что там, где идет дело об особенностях какого либо искусства, различия от родственных областей гораздо важнее, чем сходства. Главное различие здесь состоит в том, что в обыкновенной речи звук есть только средство для выражения, между тем как звука в музыке вместе и цель и средство. Все музыкальные законы будут иметь в виду самостоятельное значение и красоту звуков: напротив, законы языка будут направлены на точное употребление звука с целью выразить известную мысль.
Благодаря стремлению видеть в музыке род особого языка, возникло много ложных и запутанных воззрений. Не говоря об операх Р. Вагнера, и в маленьких, инструментальных пиесках мы часто встречаем перерывы мелодии отрывистыми каденцами, речитативами и т. п., которые, озадачивая слушателя, могут навести его на мысль о глубоком их значении, между тем, как, на самом деле, они не означают ничего.
О новейших композициях, в которых от времени до времени ритм прерывается загадочными вставками, усиленными контрастами, с похвалой отзываются, «что они стремятся сломать узкия рамки музыки и возвыситься до человеческой речи». Нам такая похвала кажется весьма двусмысленной. Границы музыки совсем не узки, но резко проведены, и она никогда не может «возвыситься» до человеческой речи.
Это забывают часто наши певцы, когда, в минуты сильнейшего аффекта, «говорят» слова и даже целые фразы, воображая, что они этим возвышают музыку. Они не видят того, что переход от пения к говору есть всегда понижение, так как нормальный тон при разговоре всегда ниже, чем самые низкие ноты того же голосового органа при пении. Еще хуже, чем эти практические следствия, те теории, которые хотят заставить музыку следовать законам построения и развития речи. Эта попытка, сделанная Руссо и Рамо, в настоящее время повторяется учениками Рихарда Вагнера.
Музыкальная эстетика должна поэтому считать одной из своих важнейших задач – доказать основную разницу между сущностью ну зыки и речи и строго проводить принцип, что где идет дело об исключительно музыкальном, аналогии с речью не могут иметь места и применения.[3]
IV
Хотя мы определили, что задача музыкальной эстетики должна состоять в исследовании прекрасного, а не чувств, им возбуждаемых, но однако эти последние играют такую очевидную и важную роль в практической жизни, что мы не можем обойти их молчанием. Так как не чувство, а фантазия, как деятельность чистого созерцания, есть тот орган, для которого и посредством которого прежде всего создается все прекрасное, то и музыкальные произведения представляют независимые от наших чувств, исключительно эстетические создания, которые должны быть рассматриваемы наукою, как таковые, независимо от второстепенных условий происхождения и влияния.
В действительности, это самостоятельное художественное произведение является посредником между композитором и слушателем. В душевной жизни, художественная деятельность фантазии не может быть так выделена, изолирована, как в готовом произведении, лежащем у нас перед глазами. Там она находится в тесной связи с ощущениями и чувствами. Они будут, таким образом, иметь громадное значение и до и после создания художественного произведения, сначала в композиторе, потом в слушателе. Обратимся к композитору. Возвышенное настроение будет исполнять его во время работы. Примет ли окраску этого настроения будущее произведение и на сколько сильно его выразит – это зависит от индивидуальности сочинителя. Общие законы эстетики должны, конечно, удерживать в известных границах его порывы, чтобы одушевление не перешло в подавляющий аффект, который уже выходит за пределы эстетики. Что касается специально творчества композитора, то нужно помнить, что оно есть постоянное образование, созидание звуковых образов. Нигде господство чувства, которое так охотно приписывают музыке, не было бы так некстати как в композиторе во время творчества. На музыкальное произведение нельзя смотреть как на воодушевленную импровизацию. Шаг за шагом идущая работа, посредством которой музыкальная пиеса, в неясных образах носившаяся перед воображением художника, получает отделку и определенность, так трудна и сложна, как это едва ли будет понятно тому, кто не испробовал этого сам. Не только фугированные или контрапунктические места, в которых каждая нота размерена, но и самое беглое и легкое рондо, самая мелодичная ария требуют выработки и отделки до мелочей. Композитора можно сравнить со всяким другим художником – скульптором, живописцем. Подобно им, он должен выразить в чистых, свободных образах сознанный им идеал. Без внутреннего одушевления нельзя производить на свет ни великого, ни прекрасного. Чувством богато одарен всякий композитор, как и всякий поэт; но оно не есть творческая сила в нем. Положим, что сильная, определенная страсть наполняет художника; она будет побуждением ко многим музыкальным произведениям, но, как уже доказано, никогда их содержанием.
Мотивы, возникающие в фантазии, а не в чувстве художника, заставляют его приняться за работу. Редко характер композиции бывает результатом личных чувств художника, редко он изображает в музыке определенный аффект, и нас интересует самое произведение, его музыкальный характер, а неаффекты и чувства композитора.
Мы видели, что деятельность композитора состоит в созидании образов; поэтому она вполне объективна. Бесконечно мягкий, гибкий материал звуков допускает, чтобы субъективность художника выразилась в самых приемах творчества. Так как характеристическое выражение свойственно уже отдельным элементам, то отличительные черты автора, как-то: сентиментальность, энергия, изящество, будут выражаться постоянным предпочтением известных тонов, ритмов, переходов и т. д. С точки зрения принципа, субъективный момент останется всегда подчиненным и выступит только в различной степени, по отношению к объективному, смотря по различию индивидуальности. Сравните преимущественно субъективные натуры, которые стремились к выражению своего внутреннего состояния (Бетговен, Шпор) с объективно-создающими (Моцарт, Глюк). Их произведения отличаются несомненными особенностями, и все вместе отражают в себе индивидуальность своих творцов и однако все, как те, так и другие созданы, как самостоятельно прекрасное, ради их самих, и только в этих эстетических границах носят субъективную окраску.
Хотя индивидуальность композитора отражается на его созданиях, но было бы ошибочно выводить отсюда понятия, которые могут основываться только на объективных отношениях. Сюда принадлежит понятие стиля.
С чисто музыкальной стороны, стиль можно определить как «совершенная техника, которая привычно употребляется для выражения художественной мысли». Художник обладает стилем, если он, воплощая ясносознанную идею, во всех технических частностях сохраняет художественную выдержку и отбрасывает все мелочное, неподходящее, тривиальное. Мы хотели бы вместе с Фишером (Aesthet. § 527) употреблять слово «стиль» и в музыке и, не входя в исторические или индивидуальные подразделения, говорить: «у этого композитора есть стиль», точно также, как говорят: «у него есть характер».
Архитектоническая сторона музыкально-прекрасного выступает, при вопросе о стиле, на первый план. Стиль известной пиесы может быть испорчен одним каким-нибудь тактом, который, будучи безупречен сам по себе, не соответствует характеру целого. Негели (Nägeli) сделал много верных замечаний, указывая на ошибки стиля в некоторых инструментальных произведениях Моцарта, исходя при этом не из характера композитора, а из чисто музыкальных соображений.
Более полная возможность непосредственной передачи чувств звуками является при исполнении музыкальных произведений. С философской точки зрения, раз созданная пиеса уже есть готовое художественное произведение, независимо от её исполнения; но это не может нам препятствовать разделять музыку на творчество и воспроизведение везде, где это может способствовать объяснению какого либо явления. особенно важно такое различие для исследования субъективных впечатлений, производимых музыкой.
Исполнителю представляется возможность, посредством своего инструмента, выразить чувство, наполняющее его в данную минуту, и вложить в свою игру выражение жгучей страсти, волнения, могучей силы и радости. Дрожание пальцев, ударяющих струны, или звуки голоса могут уже выразить личное настроение музыканта. Субъективность переходит здесь в звуки звуча, а не передается их сочетаниями или звуковыми образами. Композитор работает медленно, с перерывами, – исполнитель играет сразу целую пиесу; работа первого остается навсегда, последний действует только в данную минуту. Таким образом, выражающий и возбуждающий чувства момент музыки заключается в акте воспроизведения. Конечно, исполнитель может дать только то, что заключает в себе композиция, а это требует немного более, чем правильной передачи нот. Говорят: «исполнитель угадывает и передает мысль композитора» – хорошо, но это усвоение мысли в моменте воспроизведения – уже дело его, исполнителя. Исполнение одной и той же пиесы наскучивает или восхищает, смотря по тому, на сколько оно дает жизнь звуковым образам. Самые лучшие часы с музыкой не растрогают слушателя, а это может сделать самый простой музыкант, если он влагает душу в свою игру.
До высочайшей непосредственности достигает, наконец, выражении душевного состояния в пиесе, где творчество и исполнение соединяются в одном акте. Это – импровизация. Там, где она выступает не с чисто-художественной, а преимущественно с субъективной тенденцией (патологической, в высшем смысле слова), то выражение, которое музыкант влагает в звуки, может превратиться в настоящую речь. Тут выражается все: любовь и ревность, радость и страдание. Настроение музыканта сообщается и слушателю. Обратимся к этому последнему.
Мы замечаем на нем влияние музыки. Он настроен радостно или печально, он не только испытывает эстетическое наслаждение, а потрясен в глубине души. Существование такого влияния музыки не может подлежать сомнению и оно слишком известно, чтобы долго на нем останавливаться. Нужно только рассмотреть: в чем заключается специфический характер этого возбуждения чувств музыкой, его отличие от других душевных движений и сколько в этом действии эстетического…
Хотя мы должны признать без исключения за всеми искусствами способность действовать на чувства, но не можем отрицать, что в способе, таким действует музыка, есть что-то особенное, ей только свойственное. Музыка влияет на состояние духа быстрее и интенсивнее, чем другие искусства. Несколько аккордов могут погрузить нас в настроение, которое поэма нам даст только посредством длинного описания картины, когда мы всмотримся и вдумаемся в нее; хотя и живопись, и поэзия имеют то преимущество перед музыкой, что им доступен целый круг представлений, от которых зависят наши чувства радости и печали. Действие звуков не только быстрее и непосредственнее, но интенсивнее. Другие искусства нас убеждают, музыка овладевает нами. Это своеобразное влияние мы испытываем сильнее всего, находясь в состоянии сильного возбуждения или уныния.
При таком душевном состоянии, где ни картины, ни стихи, ни статуи уже не могут привлечь нашего внимания, музыка не теряет своей власти над нами, часто даже действует сильнее обыкновенного. Когда слушаешь музыку в минуту тоски, она точно разъедает наши душевные раны. Но одно искусство не может тогда так глубоко и болезненно врезываться нам в душу. И форма, и характер слышанного теряют свое значение, будь это бешеный вальс или задумчивое адажио, мы не в силах отделаться от него, мы чувствуем не красоту произведения, а только силу звуков, прямо и неотразимо действующих на наши нервы.
Когда Гёте, в глубокой старости, еще раз поддался увлечению любви, в нем вдруг проснулась, неизвестная ему доселе, восприимчивости к музыке. Он пишет к Цельтеру, рисуя ему волшебные дни в Мариенбаде (1823): «Как сильно на меня стала действовать музыка! Пение дивной Мидьдер, великолепный голос Шимановской, даже публичные концерты здешнего егерского полка меня так и охватывают, так ласкают, смягчая внутреннее напряжение…. Я вполне убежден, что на твоих спевках я не в силах был бы выстоять и двух-трех тактов». Ясный ум Гёте не мог не понять, какую сильную роль тут играло ненормальное возбуждение нерв; он заканчивает письмо словами: «Ты, может быть, сумел бы меня вылечить от болезненной раздражительности, которой я, главным образом, приписываю все подобные явления».
Эти наблюдения нам ясно доказывают, что в действие музыки на чувства входят и посторонние, не эстетические, элементы. Чисто художественное наслаждение предполагает вполне здоровый организм, а не ищет подспорья в ненормальном состоянии нервной системы.
Так или иначе, более интенсивное действие музыки, сравнительно с другими искусствами, придает ей особое могущество. Но если мы поближе рассмотрим это могущество, мы убедимся, что тут различие по преимуществу качественное, основанное на некоторых физиологических особенностях. Чувственный элемент, нераздельный во всяком художественном наслаждении с элементом духовным, в музыке играет большую роль, чем в других искусствах. Музыка, по своему неосязаемому материалу самой духовное, по своему способу действия самое чувственное из всех искусств, являет нам таинственное объединение двух противоположностей и этим близко уподобляется нервам, этим таинственным проводникам, связующим душевную жизнь с телесной.

