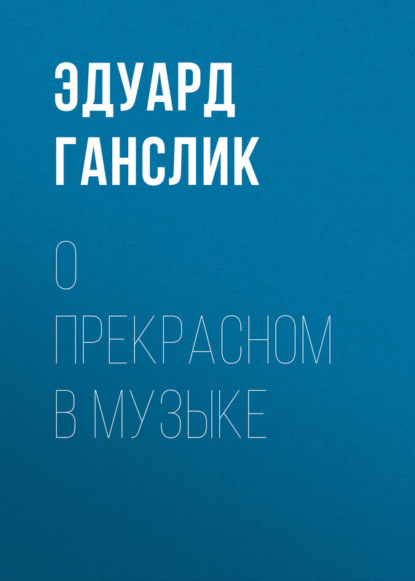 Полная версия
Полная версияО прекрасном в музыке
Гармония, в музыкальном смысле, т. е. одновременное созвучие известных тонов, также не встречается в природе, а есть произведение человеческого ума, хоть и гораздо позднейшего периода развития. Грекам была известна гармония; они пели только в октаву или унисон. Употребление терции и сексты стадо распространяться только с XII столетия.
Только третий элемент музыки – ритм, необходимое подспорье мелодии и гармонии, находится вне человека. Примером может служить галоп лошади, крик перепела, плеск волн. Не все, но большинство звуковых явлений природы – ритмичны; а именно, в природе встречается часто двухстопный ритм, т. е. подъем и падение, прилив и отлив. Разница музыкального ритма и ритма, встречающагося в природе, очевидна – в музыке гармония и мелодия проявляются ритмически, а в природе только сотрясения воздуха следуют одно за другим в известном ритме. Всего раньше в дикаре и ребенке пробуждается сознание ритма, как единственного элемента музыки, встречающагося в природе.
Каким образом человеческий ум дошел до теперешней музыкальной системы, покажет нам история музыки. Мы же удовольствуемся выводом, что мелодия и гармония, наша музыкальная гамма, разделение тонов на Dur и на Moll – все это постепенно возникшие изобретения человеческого ума.
Факт, что часто ребенок или простолюдин верно берет терции и умеет обращаться с диссонансами, нисколько не опровергает наше положение, а только показывает, как глубоко проникли в машу жизнь главнейшие основные законы современной теории музыки.
Переход из области природы в область музыкального искусства совершается при помощи математики. Конечно, было бы ошибочно предполагать, что человек подобрал гамму посредством математического вычисления колебаний, соответствующих каждой ноте; он бессознательно употреблял первобытные представления о величинах я отношениях, бессознательно считал и мерил, хотя впоследствии наука доказала верность его рассчетов.
После рассмотрения этого вопроса, необходимого для определения музыкально-прекрасного, переходим на почву эстетики.
Измеримой высоты звук и правильная система музыки – это только материал для сочинителя; остается решить вопрос, откуда он берет предмет, сюжет для своих произведений; откуда берется то, что отличает одно произведение от другого, т. е. его содержание. Пластические искусства подражают природе или описывают ее. Живописец не может изобразить Наполеона или Ахилла, не изучив сперва анатомию человеческого тела и условия выражения на человеческом лице.
Поэт, описывая поле битвы, представляет себе действительное побоище посредством воображения. Напротив того, музыка нигде в природе не находит себе первообраза для своих творений, для музыки не существует красоты природы.
Важность этого различия очевидна; творчество поэта, живописца, ваятеля, можно всегда свести на подражание; но невозможно найти предмета. подражанием которому было бы, например, соната, рондо, увертюра.
Композитор не подражает природе, он творит самостоятельно. Когда, например, говорят об увертюре Эгмонта Бетговена, о Мелузине Мендельсона, то не следует предполагать, что известные рассказы или былины дали сюжет композитору также как и поэту, который из них сочинил бы драму иль поэму. Поэту они дали типы, который он отчасти выяснил, отчасти изменил, а композитору эти типы служат только художественным возбуждением. Увертюра Бетговена не служит музыкальным выражением подвигов, убеждений или судьбы Эгмонта, как картина, представляющая Эгмонта, или трагедия, в которой он является героем. Содержание увертюры составляет ряд звуков, созданный композитором сообразно с законами искусства; название же музыкального произведения так независимо от звуков, его составляющих, что, не дай сам автор то или другое имя своему сочинению, мы бы никак не напади на настоящее заглавие. Только зная кто заглавие, мы можем судить о соответствии музыки сюжету, но при этом суждении мы должны употреблять мерку не музыкальную. Хотя можно бы сказать, что увертюра Прометея не довольно грандиозна для такого предмета, ее можно назвать безукоризненною в музыкальном отношении.
Еще одна необходимая оговорка: у Гайдена (Vier Jahreszeiten) и у Бетговена (Symphonie Pastorale) встречаются звуки, которые суть явные подражания природе, напр. крик петуха, кукушки, перепела и т. п.; ни эти звуки имеют не музыкальное, а поэтическое значение. Они должны нам напоминать то впечатление, которое они в действительности производили на нас, а не представлять собою музыкально-прекрасного.
VII
Есть ли у музыки содержание? – Вот опорный вопрос, постоянно поднимаемый во всех прениях о нашем искусстве. Вопрос этот решают в различные стороны. Веские голоса отстаивают бессодержательность музыки; – они все почти принадлежат философам, как, например, Руссо, Кант, Гегель, Гербарт, Бадирт и др. Из многочисленных физиологов, придерживающихся этого воззрения, для нас всего важнее Лотце и Гельмгольц – глубокие мыслители, замечательные также по своему музыкальному образованию. Несравненно многочисленнее шеренга, ратующая за содержание музыки; это, собственно, специалисты-музыканты между писателями, и на их же стороне громадное большинство публики.
С первого взгляда может показаться странным, что именно люди, всего лучше знакомые с техническими условиями музыки, не могут отделаться от ошибки, явно противоречащей этим условиям, тогда как этого скорее можно было ожидать от отвлеченных философов. Но это происходит оттого, что музыканты в этом случае преимущественно хлопочут о т. н. чести своего искусства; они вооружаются не против научного мнения, а против преступной ереси. Противоположное воззрение им кажется унижением искусства, святотатством. – «Как? Дивное искусство, которое нас одушевляет и вдохновляет, которому столько возвышенных умов посвятили свою жизнь, которое может служить самым благородным идеям, это искусство не имеет содержания? Его низводят на степень пустой забавы, бессмысленного щекотания слуха?» Но такие бессвязные возгласы ничего ровно не могут доказать или опровергнуть. Тут речь идет не о вопросе чести, о знамени партии, а просто об исследовании истины, и для этого необходимо прежде всего ясно определять основные понятия.
Смешение понятий содержания и предмета или цели всего больше внесло неясности в этот вопрос; одно и то же понятие часто обозначается различными словами, и, наоборот, одно я то же слово прилагается к различным понятиям. Содержание в собственном, буквальном смысле этого слова, есть то, что предмет заключает, держит в себе. В этом смысле, звуки, из которых состоит музыкальное произведение и которые к нему относятся как части к целому, составляют его содержание. Если никто не удовольствуется подобным ответом, видя в нем нечто само собою разумеющееся, то. это только потому, что обыкновенно смешивают понятие о содержании с понятием о предмете (цели, назначении). При вопросе о содержании музыки постоянно имеют в виду её предмет, сюжет, который, в качестве идеи или идеала, прямо противопоставляется материальному элементу, звукам. Содержания в этом смысле, т. е. сюжета, музыка иметь не может. Калерт с полным правом напирает на то, что музыка не допускает, подобно живописи, словесного объяснения (Aesthetik, 380), хотя он ошибается, утверждая тут же, что подобное объяснение может «служить подспорьем недостаточному художественному наслаждению». Во всяком случае, его слова отчасти выясняют занимающий нас вопрос. Если б музыкальным содержанием являлся определенный предмет – его не трудно было бы передать словами. Не определенное же содержание, которое каждый может объяснять и обозвать по своему, которое «можно только прочувствовать, а не выразить словами» – нельзя назвать содержанием в том смысле, который желают придать этому слову.
Музыка состоит из звуковых рядов, звуковых форм, которые не имеют другого содержания, кроме самих себя – мы опять-таки их сравним с архитектурой и танцами. Как бы ни разбирал и ни объяснял каждый из нас, судя по своим индивидуальным особенностям, впечатление любого музыкального произведения, он не найдет иного содержания, кроме звуковых форм, ибо музыка не только выражается звуками, но выражает одни звуки.
Крюгер, ученый и остроумный защитник музыкального содержания, утверждает, что музыка дает нам только одну сторону того же содержания, которым пользуются и другие искусства.
«Всякая пластическая фигура, говорит он (Beitrage, 131), представляется нам в минуту покоя; она являет нам не настоящее действие, а прошедшее, или же состояние. И так, картина, или статуя не говорит нам: Апполон побеждает! – но она нам показывает победителя, грозного бойца» и т. д. – Музыка же дает нам сказуемые к этим неподвижным, пластическим подлежащим, их деятельность, душевное движение, и, если мы, в первых, узнаем действительное, постоянное содержание «гневный, любящий» и т. п., то в музыке мы видим соответствующее ему движение «любить, гневаться, волноваться, стремиться». Но тут-то и ошибка: музыка может и волноваться, и стремиться, но отнюдь не гневаться или любить – ссылаемся на вторую главу нашей статьи.
Мы уже намекали на то, как тесно связан вопрос о содержании музыки с её отношением к прекрасному в природе. Музыкант не находит вне себя образцов для своего творчества, – а этими образцами определяется и выясняется содержание других искусств. Музыку же можно назвать в полном смысле бесплотным, искусством. Мы нигде не встречаем прообразов её творений, и поэтому не могли включить их в круг наших понятий. Она не изображает известного, определенного предмета, и поэтому её содержание не может быть выражено словами, или формулировано по законам рассудочного мышления.
О содержании художественного произведения может быть речь только тогда, когда это содержание противопоставляют форме – оба понятия друг друга обусловливают и дополняют. Там, где форма нераздельна от содержания, немыслимо и самобытное содержание. В музыке же мы находим форму и содержание, предмет и внешнее построение слитыми в нераздельное единство. Этою своею особенностью она резко отличается от пластических искусств и от поэзии, которым возможно одно и то же содержание облекать в различные формы. Из жизни Вильгельма Телля Флориан сделал исторический роман, Шиллер – драму, Гёте начал было не изображать в эпической поэме. Афродита, выходящая из волн морских, стала предметом и содержанием множества картин и статуй, резко отличающихся друг от друга по форме. Но в музыке нет содержания помимо формы, или формы помимо содержания. Рассмотрим это несколько подробнее.
Самостоятельною, эстетически-нераздельною, музыкальною единицею, во всяком сочинении, является тема; в ней мы должны искать все музыкальные задачи и их выполнение. Прослушаем же, например, хотя главную тему в симфонии B-dur Бетговена. – Что в ней содержание? Что форма? Где кончается первое? Где начинается последнее? Мы доказали, что определенное чрство не может служить содержанием музыкальной пиесы и надеемся, что каждый новый пример еще более подтвердит наше воззрение. В чем же искать содержания? В самих звуках? – Конечно, но они же дают и форму. В чем искать форму? В тех же звуках? – Но они нам являются формой не пустою, а осмысленной. Всякая практическая попытка отделить в любой теме форму от содержания приведет к противоречиям или к полной произвольности. Например, что изменяется в мотиве, сыгранном октавою выше или на другом инструменте? Его содержание или его форма? Если последняя, как большею частию станут утверждать, то что же останется содержанием? Только определенные, измеримый интервалы между звуками? Но это музыкальный абстракт. Перенесение мотива на другой тон, на другой инструмент, не изменяет ни его формы, ни его содержания, но только его окраску, как разноцветные стекла какой-нибудь беседки нам показывает окружающий ландшафт то в синем, то в красном, то в желтом свете. Музыка обладает громадным богатством таких окрасом, от самых ярких контрастов до самых нежных оттенков, и пользуется ими для самых разнообразных эффектов.
Когда дело идет о целом, сложном сочинении, конечно, можно говорить о его форме и его содержании. Но тогда эти слова употребляются не в точном их смысле. Формой симфонии, увертюры, сонаты называют построения и соотношения её отдельных частей, точнее сказать, симметрию этих частей в их последовательности, противоположности, повторении, постепенном развитии и т. д. Содержанием называют темы, на которых построено все музыкальное здание. И так, тут речь идет не о содержании в смысле сюжета, задачи, а o содержании чисто музыкальном. Если же слово содержание принято в точном, логическом его смысле, то мы должны его искать не в целом, многосложном сочинении, а в его музыкальной основе, т. е. в теме или в темах. В них же форма нераздельно сливается с содержанием. Если мы захотим кому-нибудь передать содержание музыкального мотива, мы должны ему сыграть или спеть самый мотив.
Так как музыкальное творчество подчинено определенным эстетическим законам, то тема не может расплываться в произвольной импровизации, а должна последовательно и постепенно развиваться, как цветок из почки.
Бессодержательными мы поэтому назовем какие-нибудь свободные прелюдии, при которых виртуоз скорее отдыхает, чем творит, в которых аккорды, арпеджии, фиоритуры заменяют самобытные звуковые образы. Такие прелюдии индивидуальности не имеют, мы их с трудом отличим друг от друга, и смело можем сказать, что в них нет содержания: (в более широком смысле этого слова), потому что нет темы.
Наши эстетики и критики недостаточно понимают важную роль главной темы в музыкальном произведении. Тема сама по себе обнаруживает настроение, одушевляющее всю пиесу. Когда Бетговен начинает свою увертюру «Леоноры» или Мендельсон свою «Фингалову пещеру», всякий истый музыкант, по первым же тактак, должен почувствовать, какое пред ним воздвигается волшебное здание. По первой же теме «Фауста» Доницетти или «Луизы Миллер» Верди, достаточно, чтобы мы почувствовали себя в кабачке.
В Германии и теория, и практика придают чрезмерное значение музыкальной разработке сравнительно с тематическим содержанием. Но то, что не заключается в теме (явно или скрыто), не может быть впоследствии органически развито, и бедности тем, а не отсутствию умения их развивать, должно приписывать, что в ваше время уже не появляются симфонии в роде Бетговевских.
Еще одна важная оговорка: беспредметная формальная красота музыки ни мешает ей налагать на свои творения печать индивидуальности. Сам способ творчества, выбор определенной темы, разработка её в определенную сторону ярко характеризуют каждое истинно-гениальное произведение. Мелодия Моцарта или Бетговена также цельна и индивидуальна, как стих Гёте, картина Рафаэля, статуя Торвальдсена. Самобытные музыкальные мысли (темы) в ней определены, как цитаты, и наглядны, как пластические изображения; они цельны, индивидуальны, вечны.
Мы никак не можем согласиться с воззрением Гегеля, которые, не допуская в музыке объективного содержания, видит в ней только выражение «безличного внутреннего настроения» (des individualitätslosen Innern). Даже с его точки зрения, если упускать из виду объективно-творческую деятельность композитора и находить в музыке одно «свободное проявление субъективности» (freie Entäusserung der Subjectivität), нельзя утверждать безличность музыкальных произведений, так как субъективность уже предполагает индивидуальность.
Мы рассмотрели выше, как индивидуальность художника проявляется при выборе и разработке музыкальных элементов. В ответ на упрек бессодержательности, мы старались доказать, что музыка, в свойственных её формах, одушевлена такою же божественной искрой, как и другие искусства. Но тем только, что мы отрицаем в ней всякое постороннее содержание, мы можем защитить её истинный, внутренний смысл.
«Русская Мысль», № 11, 1880Сноски
1
В наше время за этот вопрос с жаром ухватился Рихард Вагнер. Особливо в последних своих произведениях он дает решительный перевес драматическому принципу в ущерб музыкальному; с его точки зрения, лучшей его оперой должно считать «Тристана и Изольду», мы же несравненно выше ставим «Таннгейзера», в котором композитор хотя и далеко не возвысился до точки зрения чисто музыкальной красоты, но, по крайней мере, заведомо не отрекается от неё.
2
Эти строки ужаснули поклонников Бетговена. Лучшим ответом им могут служить слова Отто Яна (Jahn) в его статье о новом издании Бетговена (Breitkopf und Hаrtel). Ян приводит известный рассказ Шиндлера о том, что Бетговен на вопрос: что выражают его сонаты D-moll и F-moil, ответил: «Прочтите Бурю Шекспира». Вероятно, говорит Ян, спрашивавший вынес при чтении твердое убеждение, что «Буря» Шекспира действует на него иначе, чем на Бетговена, и не вдохновляет его ни на какие D-moll'ные или F-moll'ные сонаты. Нам очень интересно знать, что именно эта драма могла пробудить Бетговена к таким созданиям. Но желание искать их объяснение в Шекспире было бы доказательством отсутствия всякого музыкального понимания. При адажио квартета F-dur (Op. 18, № 1), Бетговен, говорят, думал о сцене в склепе из «Ромео и Юлии». Если вы внимательно прочтете эту сцену «и будете представлять ее себе, слушая кто адажио, то усилите ли вы этим музыкальное наслаждение, или повредите ему?» – Надписи и заглавия, даже сделанные самим Бетговеном, не помогут существенно вникнуть в смысл произведения, напротив, можно опасаться, что они вызовут ложное толкование. Прекрасная соната в Es-dur (Op. 81) носит, как известно, заглавие «Les adieux, l'absence, le retour» и потому на нее указывают, как на блестящий пример музыки, написанной на программу. «Что эти моменты из жизни влюбленной парочки» говорит Маркс (который, впрочем, не решает вопроса, обвенчаны эти влюбленные, или нет)-«предполагается само собой, но композиция нам дает и доказательство». Ленц видит в финале «двух любовников, стремящихся друг к другу с раскрытыми объятиями». На самом деле же оказывается, что Бетговен на оригинальной рукописи первой части сделал заметку: «Прощание при отъезде Его Императорского Высочества Эрцгерцога Рудольфа, 4 мая 1809 года». Вторая часть носит заглавие «Прибытие Его Императорского Высочества, Эрцгерцога Рудольфа, 30 января 1810 года». – Мы можем только порадоваться, заключает Ян, что Бетговен обыкновенно не делал таких надписей, которые многих привели бы к ложному мнению, что кто понимает заглавие, поймет и само произведение. Его музыка выражает все, что он хотел сказать.
3
Нельзя умолчать о том, что одно из гениальнейших и величайших произведений всех времен способствовало своим блеском происхождению ложной теории новейших музыкальных критиков «о внутреннею стремлении музыки достичь определенности человеческой речи». Мы говорим о 9-й симфонии Бетговена. Она представляет очевидную, непроходимую грань между двумя противоположными направлениями. Те музыканты, для которых величавость намерения и значение отвлеченной задачи значит все, считают 9-ю симфонию последним словом музыки, между тем, как небольшая кучка людей, которая борется за чисто эстетические требования, сдерживает свое удивление в известных границах. Легко угадать, что здесь говорится собственно о финале, так как о высокой (хотя не безупречной) красоте первых 3-х частей не может быть спора. В последней части мы видим исполинскую тень, отбрасываемую великаном. Мы понимаем и признаем величие идеи и однако не находим прекрасной самую музыку (при всех её гениальных особенностях).
Мы знаем очень хорошо, каким строгим приговором подвергаются такие отдельные мнения. Один из остроумнейших и многостороннейших ученых Германии, решившийся оспаривать основную мысль 9-й симфонии, признал необходимым подписать свою статью «Ограниченная голова.» Он указывает на эстетическую несообразность, заключающуюся в этом переходе инструментальной музыки в хор, и сравнивает Бетговена с скульптором, который изваял ноги, туловище и руки статуи из белого мрамора и приделал цветную голову. Нужно думать, что на каждого слушателя, обладающего тонким вкусом, переход от инструментов к человеческому голосу произведет такое же странное и неприятное впечатление, «потому что здесь художественное произведение разом изменяет свои центр тяжести и как бы угрожает опрокинуть и слушателя». Почто десять лет спустя, мы имели удовольствие узнать, что под псевдонимом «Ограниченная голова» скрывался Давид Штраусс.

