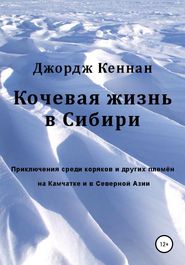 Полная версия
Полная версияКочевая жизнь в Сибири
Я уже убедился, что эти неграмотные коряки оценивают человека не столько по тому, что он знает, чего не знают они, сколько по тому, что он понимает в их собственных особых и специфических занятиях. Я решил показать им, что в цивилизованном обществе знание универсально в своем применении и что белый человек, несмотря на его недостаток в цвете кожи, может управлять собаками лучше, чем они могут управлять ими благодаря совокупной мудрости веков, и что на самом деле я мог бы, в случае необходимости, «развить принципы управления собаками из глубин своего нравственного сознания». Должен признаться, однако, что я не был полностью поглощён своими собственным идеям и поэтому не пренебрегал туземным опытом, поскольку они совпадали с моими собственными убеждениями относительно природы истинного и прекрасного в управлении собаками. Я следил за каждым движением моего каюра, теоретически научился втыкать остол между стойками полозьев в снег, чтобы он служил тормозом, запомнил и усердно упражнялся в гортанных односложных словах, которые на собачьем языке означали «направо» и «налево», а также во многих других, которые я слышал обращенными к собакам и которые означали что-то ещё. В общем, я был полон самообольстительных надежд, что я мог бы управлять упряжкой так же хорошо, как коряк, если не лучше. На мой неопытный взгляд, это было так же просто, как разориться на золотой лихорадке в Калифорнии. Поэтому в этот самый день, поскольку дорога была хорошей, а погода благоприятной, я решил проверить свои идеи, как оригинальные, так и приобретенные на практике. Я сделал каюру знак сесть сзади и передать мне его «символ власти». На его губах, когда он протягивал мне свой остол, я заметил нечто вроде скрытой насмешливой улыбки, которая указывала на очень низкую оценку моих каюрских способностей, но я ответил лишь молчаливым презрением – как знание всегда должно относиться к насмешкам невежества. Я уверенно уселся на сани и крикнул собакам: «Ну-у! Пашо-ол!». Мой голос, однако, не произвел того ошеломительного эффекта, которого я ожидал. Вожак – суровый, умудренный опытом ветеран – оглянулся через плечо и заметно замедлил шаг. Это внезапное и явное презрение к моей власти вмиг поколебало мою уверенность в собственном мастерстве больше, чем все насмешки коряков. Но мои ресурсы ещё не были исчерпаны, и я обрушил на упряжку всё, что знал: «Ах, ты шельма!.. Проклятая такая!.. Сматри, я тиби дам!», но всё напрасно – собаки были, очевидно, нечувствительны к риторическим фейерверкам такого рода и продемонстрировали свое безразличие ещё более медленной походкой. Когда я вылил на них последний пузырёк своего словесного гнева, Додд, понимавший язык, которым я так опрометчиво пользовался, не торопясь подъехал и небрежно заметил: «Провалиться мне на этом месте, но ты славно ругаешься! У меня так сразу не получалось!»
– Ругаюсь?.. Кто?.. Я ругаюсь?!.. Ты хочешь сказать, что я сквернословил?!
– Конечно! Как разбойник!
В отчаянии я уронил остол. Это и были те высокие принципы управления упряжкой, которые я развил из глубин своего нравственного сознания?! Наверное, они пришли из других глубин – моего безнравственного бессознательного.
– Ах ты, нечестивец! – воскликнул я в негодовании. – Разве ты не сам научили меня этим словам?!
– Конечно! – последовал бесстыдный ответ. – Но ты не спрашивал меня, что они означают, ты спросил, как их правильно произносить! Я и сказал как. Я не предполагал, что ты проводишь исследования в области сравнительной филологии, пытаясь доказать единство человеческого рода тождеством ругательств или сравнением ненормативной лексики, чтобы продемонстрировать, что американские индейцы в действительности происходят от китайцев. Ты знаешь, твоя голова (которая довольно хороша в других отношениях) всегда была полна такой чепухи.
– Додд, – заметил я с серьёзностью, которая должна была пробудить раскаяние в его чёрством сердце, – меня принудили к совершению греха против моей воли, и поскольку немного больше или меньше уже не изменит моей вины, я отвечу тебе одним из твоих же нечестивых наставлений!..
Додд рассмеялся и поехал дальше. Этот маленький эпизод значительно охладил мой энтузиазм и заставил с осторожностью пользоваться иностранными языками. Я стал подозревать, что в самых обычных словах для собак могут содержаться какие-то ужасные проклятия, что даже в односложных «кта» и «ху», которые, как меня учили, означали «направо» и «налево», таится ненормативная лексика. Собаки тем временем уже заметили отсутствие внимания со стороны их каюра и с удовольствием стали проявлять собачью склонность останавливаться и отдыхать, Что было прямым нарушением всякой дисциплины, чего они не посмели бы сделать с опытным возницей. Решив подтвердить свою власть более решительными мерами, я метнул свой остол, как гарпун, в вожака, намереваясь сбить его с ног и подобрать остол, когда сани проедут мимо. Однако пёс ловко увернулся и отбежал на десять футов в сторону. Как раз в эту минуту три или четыре диких оленя выскочили из-за холмика в трёхстах ярдах от нас и поскакали через тундру к глубокому обрывистому оврагу, в котором протекала река Микина. Собаки, верные своим волчьим инстинктам, с яростным лаем бросились в погоню. Я судорожно попытался схватить остол, когда мы проносились мимо, но не смог дотянуться, и мы понеслись прямиком к оврагу. Сани бешено трясло на твёрдых застругах, они подпрыгивали и приземлялись с такой силой, что я был уверен, что вывихну себе что-нибудь. Коряк, обладавший более здравым смыслом, чем я предполагал, скатился с саней уже несколько секунд назад, и, оглянувшись, я увидел только его руки и ноги, быстро вращающиеся на снегу. Однако у меня не было времени, при грозящей мне опасности, сочувствовать его несчастью. Все мои помыслы были направлены на то, чтобы умерить бешеную скорость, с которой мы приближались к оврагу. Без остола, однако, эти помыслы так и остались благими пожеланиями, и через мгновение мы очутились на краю обрыва. Я зажмурил глаза, крепко вцепился в сани и полетел вниз! Где-то на полпути спуск стал ещё круче, вожак свернул в сторону, сани развернулись, опрокинулись, и я вылетел из них, как из пращи. Я пролетел, должно быть, футов двадцать и полностью зарылся в глубокий мягкий сугроб, за исключением нижних конечностей, которые, оставаясь снаружи, подавали слабые сигналы к спасению. Обремененный толстыми мехами, я с трудом выкарабкался из сугроба и когда, наконец, выглянул наружу с тремя пинтами снега за шиворотом, сквозь кусты на краю обрыва увидел круглое улыбающееся лицо моего коряка.
– У-ума! – позвал он.
– Чего? – ответила залепленная снегом фигура по пояс в сугробе.
– Американски нет добра каюра, да?
– Ньет софсем добра» – был печальный ответ, когда я выбрался из сугроба.
Сани, как я обнаружил, застряли в кустах неподалёку, а запутавшиеся в постромках собаки выли диким хором. Я был так удовлетворён своим экспериментом, что не хотел сейчас же его повторять, и не возражал против того, чтобы коряк снова занял свое прежнее положение. Я вполне убедился, что наука вождения собак требует более тщательного и серьезного изучения, чем я до сих пор уделял ей, и я решил тщательно проштудировать её элементарные положения, как они изложены корякскими профессорами, прежде чем снова пытаться применить мои собственные идеи на практике.
Когда мы выбрались из оврага на открытое пространство, то увидели, что остальная часть нашего отряда приближается к корякской деревне Куюл[82]. Мы миновали её ближе к вечеру и остановились на ночлег в лиственном лесу на берегу реки Парень.
Теперь мы были всего в семидесяти милях от Гижиги[83]. На следующую ночь мы добрались до небольшой бревенчатой юрты на берегу реки Гижиги, построенной там правительством для размещения путешественников, а в пятницу утром, 25 ноября, около одиннадцати часов, увидели красную колокольню, отмечавшую место русского селения Гижига. Кто не путешествовал в течение трёх долгих месяцев по таким диким местам, как Камчатка, не ночевал в штормовую погоду в безлюдных горах, не жил, как совершенный дикарь, в дымных ярангах и ещё более дымных и грязных юртах коряков – тот не сможет понять, с каким радостным сердцем мы приветствовали эту красную церковную колокольню и цивилизацию, знаком которой она была. Почти месяц каждую ночь мы спали на земле или на снегу; не видели ни стула, ни стола, ни кровати, ни зеркала, не раздевались на ночь и умывались только три или четыре раза за всё время! Мы были грязные и прокопчённые, все в оленьей шерсти от меховых кухлянок, волосы отросли так, что закрывали уши, кожа на обмороженных носах и скулах облезла, и вообще мы выглядели так дико и заброшено, как только могут выглядеть холостые мужчины. Однако у нас не было ни времени, ни желания как-то прихорашиваться – наши собаки неслись бешеным галопом и с громким лаем, который вызвал ответный хор завываний двух-трех сотен других собачьих глоток, наши погонщики кричали: «Хта! Хта! Ху! Ху!», поднимая фонтаны снега своими остолами, мы мчались по улицам, а население выглядывало из дверей, чтобы выяснить причину такого адского переполоха. Один за другим наши пятнадцать саней промчались через деревню и остановились перед большим добротным домом с двойными стеклянными окнами, где, по словам Кириллова, были сделаны приготовления к нашему приёму. Едва мы вошли в большую чистую комнату и сбросили с себя тяжёлые промёрзшие меха, как дверь за нами отворилась, и в комнату вбежал невысокий порывистый человек с густыми тёмно-рыжими усами и светлыми коротко стриженными волосами, одетый в аккуратный суконный сюртук, брюки и белоснежную льняную рубашку, с перстнями на пальцах, золотой цепочкой на пуговице жилета и тростью. Мы сразу узнали в нем исправника и попытались незаметно выскользнуть из комнаты, но было уже слишком поздно, и мы приветствовали вбежавшего словами «Здравствуйте!» по-русски, после чего довольно неуклюже уселись на стулья, прикрыли почерневшие руки носовыми платки и принялись изображать из себя хладнокровных и благородных офицеров Великой Русско-Американской телеграфной экспедиции. Это была жалкая попытка! Живо сознававшие свои грязные лица и вообще дурную наружность, мы не могли быть похожи ни на кого, кроме кочевых коряков, да ещё явно потерпевших бедствие. Исправник же, казалось, не замечал ничего необычного в нашем облике, и сыпал чередой быстрых вопросов, вроде: «Когда вы уехали из Петропавловска? Вы только что из Америки? Я послал казака. Вы с ним встречались? Как вы пересекли тундру, с коряками? Ах! эти чёртовы коряки! Есть новости из Санкт-Петербурга? Вы должны прийти и пообедать со мной. Как долго вы пробудете в городе? Вы можете принять ванну перед ужином. Эй, люди! (очень громко и повелительно). Иди и скажи моему Ивану, чтобы он быстро нагрел ванну! Ах, чёрт их возьми!» – и беспокойный человечек замолчал, казалось, от полного изнеможения, но вдруг вскочил и начал нервно расхаживать по комнате, в то время как майор рассказывал ему о наших приключениях, сообщал последние новости из России, объяснял наши планы и цель экспедиции, рассказывал об убийстве Линкольна, о конце восстания, о последних новостях французского вторжения в Мексику, о сплетнях императорского двора и о многих других новостях, которые мы знали уже полгода, но о которых бедный исправник ещё не слышал. Он не общался с Россией уже почти одиннадцать месяцев. Повторив своё приглашение на обед, он поспешно ушёл, дав нам возможность умыться и переодеться.
Через два часа, во всём великолепии синих мундиров, медных пуговиц и погон, с выбритыми лицами, в накрахмаленных рубашках и начищенных сапогах, «Первый Сибирский Исследовательский Отряд» отправилась на обед к исправнику. Русские крестьяне, которые встречались нам на пути, невольно откидывали свои заиндевевшие меховые капюшоны и удивленно смотрели на нас, будто мы свалились с неба. Никто не узнавал в нас тех грязных, оборванных, прокопченных бродяг, которые появились в деревне пару часов назад. Гусеницы превратились в сине-золотых бабочек! Мы нашли исправника, ожидающего нас в приятном просторном доме, обставленном со всей роскошью цивилизованного жилища. Стены были оклеены обоями и украшены дорогими картинами и гравюрами, на окнах висели занавески, на полу лежал мягкий цветистый ковёр, в одном углу комнаты стоял большой письменный стол орехового дерева, в другом – мелодеон[84] розового дерева, а в центре стоял обеденный стол, покрытый свежей скатертью и сверкающий серебром и фарфором. Мы были просто ослеплены видом такого неожиданного великолепия. После неизбежных «пятнадцати капель» коньяка и закуски из копчёной рыбы, ржаного хлеба и икры, которая всегда предшествует русскому обеду, мы уселись за стол и провели полтора часа, пробуя многочисленные блюда: щи, пирог с лососем, котлеты из оленины, дичь, пирожки с мясом, десерт и пирожные, и обсуждая новости всего мира, от деревушек Камчатки до императорских дворцов Москвы и Санкт-Петербурга. Затем наш гостеприимный хозяин велел подать шампанское, и за высокими тонкими бокалами прохладного искрящегося Клико мы размышляли о превратностях сибирской жизни. Вчера мы сидели на земле в чуме коряков и руками ели оленину из деревянного корыта, а сегодня в роскошном доме русский чиновник дает нам обед, в меню которого котлеты из оленины, рождественский пудинг и шампанское. За исключением заметного, но сдержанного желания Додда и меня скрестить ноги и сесть на пол, в нашем поведении не было ничего такого, что могло бы выдать ту варварскую свободу, с которой мы совсем недавно жили. Мы уверенно держали в руках ножи и вилки и неторопливо потягивали шампанское с изяществом, которое вызвало бы зависть самого Лорда Честерфилда. Но это была тяжёлая работа! Только мы успели вернуться в свои покои, как сбросили мундиры, расстелили на полу медвежьи шкуры и уселись на них, скрестив ноги, чтобы спокойно и непринуждённо покурить по старой доброй привычке. Если бы ещё наши лица были хоть немного грязными, мы были бы совершенно счастливы!
Следующие десять дней нашей жизни в Гижиге прошли в относительной праздности. Мы немного прогуливались, когда погода была не слишком холодная, принимали официальные визиты русских купцов, посещали исправника, пили его восхитительный «цветочный чай» и курили по вечерам его папиросы – в общем, всячески возмещали неудобства трёх месяцев неустроенной жизни, наслаждаясь тихими удовольствиями маленькой деревни. Однако это приятное бесцельное существование вскоре было прервано приказом майора собираться к зимнему походу и быть готовыми в любой момент отправиться за Полярный круг или на западное побережье Охотского моря. Он решил изучить маршрут нашей предполагаемой телеграфной линии от Берингова пролива до Амура до наступления весны, и потому нельзя было терять ни минуты. Информация, которую мы могли собрать в Гижиге относительно внутренних районов страны, была скудной, неопределенной и отрывочной. По рассказам туземцев, между Охотским морем и Беринговым проливом было всего два поселения, и ближайшее из них – Пенжина[85] – находилось в четырехстах верстах. Между ними лежала обширная моховая тундра, непроходимая летом и совершенно безлесая; и та её часть, которая лежала к северо-востоку от последнего поселения, была совершенно непригодна для жизни из-за отсутствия леса. Русский чиновник по имени Филиппеус[86] пытался исследовать её зимой 1860 года, но безрезультатно, вернувшись в голодном и измождённом состоянии. На всём протяжении восьмисот верст между Гижигой и устьем Анадыря, как говорили, было только четыре или пять мест, где можно было найти достаточно леса для телеграфных столбов, и на большей части пути не было ничего, кроме редких участков стланика. Путь от Гижиги до последнего населённого пункта, Анадырска, на Полярном круге, в зависимости от погоды занимал от двадцати до тридцати дней, а дальше этого пункта не было возможности идти ни при каких обстоятельствах. Район к западу от Гижиги, вдоль побережья Охотского моря, по сообщениям, был лучше, но гористый и очень трудный, сплошь заросший сосной и лиственницей. До деревни Охотск, находившейся в восьмистах верстах, можно было добраться на собачьих упряжках примерно за месяц. Короче говоря, это была вся информация, которую мы смогли получить, и она не внушала нам большой уверенности в конечном успехе нашего предприятия. Я впервые осознал масштабность задачи, которую взяла на себя Русско-Американская телеграфная компания. Однако теперь мы уже, как говорится, «ввязались в драку», и нашей главной обязанностью было пройти по всему предполагаемому маршруту, выяснить его особенности и природу, и определить, какие ресурсы она может предоставить для строительства нашей линии.
Русские поселения Охотск и Гижига разделили местность между Беринговым проливом и рекой Амур на три почти равных участка, из которых два были горными и лесистыми, а один сравнительно ровным и почти безлесым. Первый из этих участков, между Амуром и Охотском, был отведен Махуду и Бушу, и мы полагали, что они уже занимаются его разведкой. Остальные два участка, охватывающие весь район между Охотском и Беринговым проливом, надо было разделить между майором, Доддом и мной. Ввиду того, что неисследованная территория непосредственно к западу от Берингова пролива была пустынна, было решено оставить ее нетронутой до весны, а возможно, и до следующего сезона. Обещанное сотрудничество со стороны Анадырьского речного отряда не состоялось, а без этого майор не считал целесообразным предпринимать разведку местности, которая создавала так много препятствий для зимнего путешествия. Таким образом, от Охотска до русского форпоста Анадырска, расположенного немного к югу от Полярного круга, оставалось пройти в общей сложности около тысячи четырёхсот вёрст. После некоторого раздумья майор решил отправить меня и Додда с группой туземцев в Анадырск, а самому отправиться на собачьих упряжках в поселок Охотск, где он ожидал встретить Махуда и Буша. Таким образом, можно было надеяться, что в течение пяти месяцев мы сможем сделать приблизительное, но достаточно точное обследование почти всего маршрута линии. Провизия, которую мы привезли из Петропавловска, была вся израсходована, за исключением чая, сахара и нескольких банок консервированной говядины, но мы приобрели в Гижиге два-три пуда ржаного хлеба, пять замороженных туш оленей, немного соли и большой запас юколы. Всё это, вместе с чаем, сахаром и несколькими кругами замороженного молока составляло наш запас провизии. Кроме того, мы запаслись восемью пудами черкесского листового табака, чтобы использовать его вместо денег, поделили поровну оставшийся запас бус, трубок, ножей и прочих товаров для меновой торговли, купили новую меховую одежду и сделали остальные приготовления к трём-четырём месяцам кочевой жизни в арктическом климате. Исправник приказал шестерым своим казакам перевезти нас с Доддом на собачьих упряжках до села Шестаково, а вернувшихся анадырцев послал в Пенжину сказать, чтобы к 20 декабря были готовы три или четыре человека и собачьи упряжки, чтобы отвезти нас до Анадырска. Мы наняли старого опытного казака по имени Григорий Зиновьев в проводники и переводчики, а также молодого русского по имени Егор в повара и помощники по лагерю, уложили наши припасы на сани, закрепили их ремнями из тюленьих шкур, и к 13 декабря были готовы выйти в поход. В тот же вечер майор передал нам подробные инструкции по маршруту. Нам предстояло следовать обычной санной дороге в Анадырск через Шестаково и Пенжину, выяснить, каков на этом пути грунт и лес для строительства телеграфной линии, нанять туземцев готовить столбы в Пенжине и Анадырске, и по возможности проводить дополнительные изыскания лесных рек между Пенжинским заливом и Беринговым морем. В конце весны мы должны были вернуться в Гижигу со всей информацией о разведанной местности. Сам майор останется в Гижиге примерно до 17 декабря, а затем отправится на собачьих упряжках с Вьюшиным и небольшим отрядом казаков в поселок Охотск. Если он обнаружит там Махуда и Буша, то сразу же вернётся и встретится с нами в Гижиге к первому апреля 1866 года.
Глава XXIII
Путешествие на собаках – Арктические миражи – Лагерь ночью – Собачий хор – Северное сияние.
Утро 13 декабря выдалось ясным, тихим и морозным, с температурой тридцать пять градусов ниже нуля, но так как солнце взошло только в половине одиннадцатого, то мы смогли собрать наших каюров и запрячь собак только к полудню. Наша маленькая компания из десяти человек выглядела совершенно живописно в своих новых весело расшитых шубах, красных кушаках и жёлтых лисьих капюшонах, когда мы собрались перед домом, чтобы попрощаться с исправником и майором. Восемь тяжело нагруженных саней выстроились в ряд перед крыльцом, и почти сотня собак нетерпеливо прыгала в своих упряжках и оглушительно вопила от нетерпения. Мы попрощались со всеми, получили сердечное «Да благословит вас Бог, мальчики!» от майора, и отбыли в вихрях снега, который жалил наши лица, как горящие искры. Старый Падерин[87], предводитель гижигинских казаков, с седыми заиндевелыми волосами и бородой, стоял перед своим красным бревенчатым домиком, когда мы проезжали мимо, и махал нам на прощанье своей меховой шапкой, пока мы не выехали в тундру за околицей.
Был только полдень, но солнце, хотя и находилось в высшей точке, светило красным огненным шаром низко над горизонтом, и странные мрачные сумерки висели над белым зимним пейзажем. Я не мог отделаться от впечатления, что солнце только что встало и день только начинается. Белые куропатки то и дело взлетали перед нами с громким хлопаньем крыльев, издавая хриплое «кверк, кверк, кверк», и, отлетев на пару десятков ярдов в сторону, садилась на снег и мгновенно становились невидимыми. Несколько соро́к неподвижно сидели в зарослях стланика, когда мы проезжали мимо, их перья были взъерошены, они казались оцепеневшими от холода. Далекая синяя полоса леса вдоль реки Гижиги дрожала и колыхалась, как будто видимая сквозь потоки нагретого воздуха, а белые призрачные горы в тридцати милях к югу колыхались над горизонтом, размытые рефракцией на тысячу фантастических форм, которые перетекали одна в другую, как волны на поверхности воды. Каждая деталь пейзажа была странной, причудливой, арктической. Красное солнце медленно катилось по горизонту, пока, казалось, не остановилось на снежной вершине далеко на юго-западе, а затем внезапно исчезло, и мрачные сумерки постепенно растворились в ночи. С восхода солнца прошло всего три часа, а на небе уже можно было отчетливо различить звёзды первой величины.
Мы остановились на ночлег в доме русского крестьянина, жившего на берегу реки Гижиги, примерно в пятнадцати верстах к востоку от поселка. Пока пили чай, из деревни прибыл специальный посланец, который привёз нам от майора два замороженных пирога с черникой в знак прощания и как последний дар цивилизации. Делая вид, что он боится, как бы с этими деликатесами что-нибудь не случилось в дороге, Додд в качестве меры предосторожности съел один из них до последней чернички, а я, вместо того, чтобы принести себя в жертву ошибочному представлению о долге, сам позаботился о сохранности второго и уберёг его от всяких случайностей.
На следующий день мы добрались до небольшой бревенчатой юрты на реке Мальмовке, где ранее провели ночь по пути в Гижигу, и так как было очень холодно, мы с радостью снова воспользовались её укрытием и сгрудились вокруг костра, который Егор разжег на глиняном возвышении посередине. На грубом дощатом полу не хватало места, чтобы вместить всю нашу компанию, потому все, кто не поместился, развели снаружи огромный костер из лиственничных поленьев, развесили над ним чайники, оттаяли свои обледеневшие бороды и принялись грызть юколу, петь весёлые русские песни и были так шумно счастливы, что нам захотелось отказаться от роскоши крыши ради того, чтобы разделить с ними их радость и веселье. Однако наш термометр показывал 30 градусов ниже нуля, и мы старались не высовываться на улицу, кроме тех моментов, когда необычно громкий взрыв смеха возвещал о какой-то грандиозной сибирской шутке, которую, как нам казалось, стоило бы послушать. Атмосфера снаружи оказалась достаточно бодрящей, чтобы оказать вдохновляющее действие на наших бойких казаков, но слишком уж прохладной для хрупких американских конституций. Однако с хорошим очагом и большим количеством горячего чая нам удалось вполне удобно устроиться в юрте, и мы замечательно провели долгий вечер, покуривая черкесский табак с сосновой корой, распевая американские песни, рассказывая друг другу истории и расспрашивая нашего добродушного и простоватого казака Миронова.
Было уже довольно поздно, когда мы, наконец, забрались в свои меховые мешки и попытались уснуть, но ещё долго до нас доносились песни, шутки и смех наших людей, сидевших вокруг костра и рассказывавших забавные истории о своих путешествиях.
На следующее утро мы встали задолго до рассвета и, наскоро позавтракав чёрным хлебом, сушёной рыбой и чаем, запрягли собак, смочили полозья саней водой из чайника, чтобы покрыть их ледяной коркой и выехали из лиственничного леса, окружавшего юрту на обширную снежную равнину, лежащую между рекой Мальмовкой и Пенжинской губой. Перед нами лежала огромная ровная тундра, такая же бескрайняя для усталого глаза, как и сам океан. Она простиралась во все стороны до самого горизонта, без единого деревца или куста, без всяких признаков животной или растительной жизни, без каких-либо намёков на то, что здесь когда-то бывает лето, цветы и тёплое солнце.



