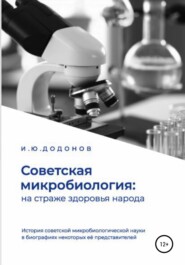 Полная версия
Полная версияСоветская микробиология: на страже здоровья народа. История советской микробиологической науки в биографиях некоторых её представителей
Николай Фёдорович бесстрашно пытался помочь своим коллегам: сам писал письма в правительство и следственные органы, ставил свою подпись под письмами других. В частности, известна его активная роль в попытках добиться освобождения Л.А. Зильбера. Тогда это было ох как небезопасно – многие «подписанты» расплачивались за это, сами попадая под следствие. Так, например, случилось с известным микробиологом А.А. Захаровым, который был, в итоге, расстрелян (по одной из версий; по другой – скончался в заключении).
Но Гамалею «сея участь минула»: лично его репрессии не коснулись. Хотя, очень даже может быть, что именно с арестом сына связан уход учёного с поста научного руководителя Центрального института эпидемиологии и микробиологии.
С 1938 года он переходит на работу во 2-й Московский медицинский институт, где возглавляет кафедру микробиологии. В этом институте и на этой должности Николай Фёдорович проработал до конца жизни. С 1939 года параллельно он заведовал одной из лабораторий Центрального института эпидемиологии и микробиологии.
Начавшаяся Великая Отечественная война не прервала активной деятельности Н.Ф. Гамалеи. Он руководил работой Вирусного комитета Академии наук СССР, продолжал возглавлять Всесоюзное общество микробиологов, эпидемиологов и инфекционистов.
16 июля 1941 Николай Фёдорович с семьёй (женой, дочерью и двумя внуками) был эвакуирован из Москвы и 22 июля в составе большой группы старейших учёных прибыл в Северный Казахстан, на курорт «Боровое».
Как отмечал академик В.И. Вернадский, также эвакуированный в Боровое, здесь собралась «очень хорошая и научно сильная академическая группа» [8; 2].
Но академики, специалисты с мировыми именами по многим отраслям знаний, несмотря на свой преклонный возраст, вовсе не собирались отдыхать на курорте. Просто не могли себе этого позволить в такое тяжёлое для страны время.
Уже 24 июля 1941 года учёные образовали в Боровом Казахстанскую группу Академии наук СССР. По предложению академика В.И. Вернадского, её председателем был избран академик Н.Ф. Гамалея, а секретарём – академик С.Г. Струмилин.
Научная группа развернула сбор средств для создания танковой колонны «За передовую науку».
Каждый из учёных постарался организовать научно-исследовательскую, образовательную и просветительскую деятельность в своей области.
Не был исключением и Николай Фёдорович Гамалея. Впоследствии в своих «Воспоминаниях» он весьма скромно отметил: «Мне во время Великой Отечественной войны удалось в эвакуации устроить лабораторию для продолжения своих исследований по туберкулёзу, которые привели к некоторым положительным результатам» [8; 2].
«Удалось… устроить лабораторию…» Надо иметь в виду, что в условиях эвакуации, вдали от научного центра, организовать микробиологическую лабораторию и наладить её нормальную работу было непростым делом.
У Николая Фёдоровича был совсем небольшой штат научных сотрудников: В. Кудинова, А. Кофман, О. Травина, М. Гамалея (дочь).
Тем не менее работа по изучению средств и способов борьбы с туберкулёзом была проделана большая, а «некоторые положительные результаты» её оказались весьма внушительными.
Прежде всего, Н.Ф. Гамалея обратился к миколу, который, напомним, ему удалось получить ещё в 1891 году (сам он назвал его тогда туберкулоцерином).
К миколу, содержавшему антигены туберкулёзной палочки и обладавшему иммунизирующим эффектом, учёный добавлял препарат гиалуроновой кислоты, получаемый им стекловидного тела бычьих глаз.
Гиалуроновая кислота обладала регенерирующей способностью, т.е. содействовала восстановлению поражённых туберкулёзом тканей. Как выяснилось, микол, кроме непосредственно иммунизирующего эффекта, также способствовал рассасыванию язв у заражённых животных (морских свинок).
Полученный препарат (микол с добавлением гиалуроновой кислоты) дал хороший лечебный результат в лабораторных условиях: заражённые туберкулёзом морские свинки после лечения этим препаратом поправились.
Клинические испытания Николай Фёдорович, по своему обыкновению, провёл, прежде всего, на себе самом. Он, глубокий старик, которому исполнилось 85 лет, вопреки протестам семьи, заразил себя туберкулёзом, а затем, вводя себе разработанный им препарат, вылечил себя. Вредных побочных эффектов микол не показал.
Только тогда Н.Ф. Гамалея рекомендовал препарат для лечения больных. Инъекции микола (или лучше, наверное, называть его неомиколом) проводились больным Щучинского туберкулёзного диспансера и стационара при государственном курорте «Боровое» доктором И.Г. Халло в присутствии Н.Ф. Гамалеи. Лечение больных было благоприятно.
После успеха с миколом (неомиколом) Николай Фёдорович обратился к разработке ещё одного противотуберкулёзного препарата. Как вы помните, ещё в 1924 году он проводил исследования невосприимчивости серых крыс (пасюков) к туберкулёзу. И вот теперь для получения нового препарата учёный решил использовать экстракт тканей иммунизированных пасюков. Начатая в Боровом работа была продолжена в Москве после возвращения из эвакуации совместно с Н.П. Грачёвой.
Уделяла маленькая микробиологическая лаборатория Гамалеи в Боровом внимание лечению и профилактике гриппа. В 1942 году ей был разработан метод профилактики гриппа путём обработки слизистой оболочки носа препаратами олеиновой кислоты.
Но Николай Фёдорович не ограничивал свою деятельность микробиологической лабораторией. Значительное время он отводил лечению раненых и больных красноармейцев, поступавших в эвакогоспиталь Борового. Организовал приём больных туберкулёзом из населённых пунктов, находившихся в окрестностях курорта. Местное казахское население с уважением называло его «Гамал-ага». Кстати, заметим, что Николай Фёдорович, находясь в Боровом, освоил казахский язык и довольно бегло на нём разговаривал.
Н.Ф. Гамалея принимал участие в медицинских совещаниях Государственного Центрального института курортологии и физиотерапии и Крымского НИИ физических методов лечения и медицинской климатологии имени И.М. Сеченова, также эвакуированных в Боровое.
За годы эвакуации из-под пера Н.Ф. Гамалеи вышел ряд научных работ: «Влияние бактериальных витаминов на лечение туберкулёза в Боровом», «Лечебные факторы Борового», «Медицинская микробиология» (учебник, второе издание), «Руководство по микробиологии», «Грипп и борьба с ним» (ценность этой небольшой по объёму работы была отмечена в английской научной печати).
В 1943 году Николай Фёдорович был удостоен Сталинской премии за многолетнюю выдающуюся работу в области науки, а также за научный подвиг в тылу в годы Великой Отечественной войны.
Во второй половине 1944 года Н.Ф. Гамалея с семьёй вернулся из эвакуации в Москву. Увы, среди вернувшихся не было супруги учёного Надежды Михайловны Гамалея, которая скончалась в Боровом 27 мая 1944 года. Там же она и была похоронена.
После возвращения в Москву Николай Фёдорович продолжил работу над противотуберкулёзным препаратом из экстракта тканей иммунизированных пасюков. Работа велась им совместно с биохимиком Н.П. Грачёвой. Полученный исследователями препарат был назван тиссулином. Он показал свою эффективность при лечении заражённых туберкулёзом животных.
Результаты этой работы были оглашены Гамалеей 26 января 1946 года на заседании учёного совета Института туберкулёза Академии медицинских наук СССР.
К сожалению, не только тиссулин, не проходивший клинических испытаний, но и микол, прошедший клинические испытания в Боровом во время войны, не могли начать применяться в медицинской практике. Ясно, что тиссулину были необходимы клинические испытания. Что же касается микола, то требовалось официальное подтверждение результатов его испытаний в военные годы.
Только в 1948 году Минздрав СССР издал приказ о проведении широких клинических испытаний микола и тиссулина. Они были успешно начаты, но затем приостановлены и уже больше не возобновлялись. Надо полагать, что дело тут было не только в смерти автора препаратов – академика Гамалеи, который, наверное, мог бы своим авторитетом «продавить» продолжение клинических испытаний и довести дело до массового выпуска этих лекарств. В связи с триумфальным началом эры антибиотиков, которые дали хороший результат в деле лечения туберкулёза, получение и производство других препаратов попросту казалось ненужным как пустая трата времени, сил и средств.
Увы, туберкулёзная микобактерия стала довольно быстро приспосабливаться к тем антибиотикам, которыми пытались её победить. Так, скажем, полученный американскими учёными в 1944 году стрептомицин первоначально показывал высокую эффективность при лечении туберкулёза. Однако уже к 70-м годам ХХ века эта эффективность резко снизилась, а вскоре стрептомицин и вовсе оказался бесполезен в борьбе с туберкулёзом. На смену ему стали один за другим приходить новые синтетические антибиотики. Для победы над болезнью всё более увеличивалась их «мощность», росла дозировка. Антибиотики даже стали применять комплексно (методика DOTS). Тем не менее палочка Коха раз за разом «училась побеждать» антибиотики. И по сей день туберкулёз ведёт широкое наступление на человечество. Методика DOTS – комплексное применение мощнейших синтетических антибиотиков – пока эффективна. Но не ждёт ли и её судьба предшествующих антибиотических препаратов, перед которыми болезнь первоначально отступала, а затем как будто делала качественный рывок, и «бившие» её ранее антибиотики оказывались бесполезными?
И тогда возникает естественный вопрос: а не пора бы пойти по иному пути? Тенденция явно прорисовывается: наращивание «мощности» антибиотиков даёт лишь временный эффект. Может быть, лучше обернуться назад и вспомнить разработанные Гамалеей микол и тиссулин? Может быть, здесь лежит решение? Может быть, именно эти два препарата смогут, наконец-то, обеспечить окончательную победу над туберкулёзом, позволят обуздать опасную и коварную болезнь.
Но вернёмся к биографии Николая Фёдоровича.
Последние годы своей жизни он занимался также исследованиями в области вирусологии. Случайным и спонтанным этот интерес не был.
В сущности, именно Гамалея сделал первый шаг к открытию вирусов. В 1886 году, ещё до открытия Д.И. Ивановского (1892 г.), Николай Фёдорович отметил, что кровь телёнка, больного чумой рогатого скота, профильтрованная через фильтр Шамберлана, оставалась заразной для здоровых телят. Было ясно, что заболевание в подобном случае вызывают не бактериальные патогены. Но что? Учёный не мог тогда объяснить этого. Не было у него возможности и продолжать исследование выявленного эффекта. Поэтому публикация Гамалеи о своём наблюдении попросту прошла незамеченной. Однако позже ряд авторов и историков науки стали считать именно Гамалею исследователем, который описал возбудителя чумы рогатого скота как вирус (не открыв, собственно, самого вируса). Вполне обосновано им возражали другие авторы и историки науки, ссылаясь именно на то, что Николай Фёдорович не понял, что он открыл. Указанная «оценочная вилка» существует и в наши дни. Доля истины есть и в той, и в другой точке зрения.
В 1899 году Гамалея впервые выдвинул теорию о «невидимых микробах» (т.е. вирусах) – возбудителях рака. Этой теории он придерживался до конца своей жизни.
Оспа, борьбе с которой учёный посвятил многие годы, является вирусным заболеванием.
И в 30-х годах, и в годы Великой Отечественной войны Н.Ф. Гамалея не раз обращался к изучению гриппа (даже выпускал работы по этой теме и разрабатывал методы профилактики данной вирусной инфекции).
Т.е. вирусы для Гамалеи были «не в новинку».
Однако во второй половине 40-х годов Николай Фёдорович занимался исследованиями в области вирусной теории рака. Последним его трудом (незаконченным, оставшимся только в рукописи) явилась как раз книга «Вирусная теория рака».
В 1945 году Н.Ф.Гамалея был награждён орденом Трудового Красного знамени (это второй его орден; первым был ещё в 30-х годах орден Ленина) и избран академиком Академии медицинских наук СССР.
Для характеристики гражданской позиции учёного важно отметить два события в его жизни.
В 1948 году 89-летний Гамалея подал заявление о вступлении в ряды ВКП (б). Учёного приняли в партию без прохождения кандидатского стажа. Так что, без малого, в 90 лет Николай Фёдорович стал коммунистом. Когда кто-то спросил его, зачем ему это надо (мол, на старости-то лет), он с достоинством ответил, что вступить в партию обещал Ленину.
В феврале 1949 года в связи с начавшимся делом врачей (Штерна, Парнаса, Шимелиовича) Н.Ф. Гамалея написал два письма Сталину. Вот текст одного из них:
«Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович!
Как один из старейших учёных нашей страны я обращаюсь к Вам с настоящим письмом, не имеющим абсолютно никаких личных моментов, а затрагивающим один чрезвычайно важный вопрос, имеющий большое политико-общественное значение.
[…]
Для меня, как и для многих моих друзей и знакомых, является совершенно непонятным и удивительным факт возрождения такого позорного явления как антисемитизм, который вновь появился в нашей стране несколько лет тому назад и который, как это ни странно, начинает вновь распускаться пышным цветом, принимая многие образные виды и формы. Антисемитизм начинает отравлять здоровую атмосферу нашего советского общества. Начинает разрушать великую дружбу народов. Судя по совершенно бесспорным и очевидным признакам, вновь появившийся антисемитизм идёт не снизу, от народных масс, среди которых нет никакой вражды к еврейскому народу, а он направляется сверху чьей-то невидимой рукой. Антисемитизм исходит сейчас от каких-то высоких лиц, засевших в руководящих партийных органах, ведающих делом подбора и расстановки кадров…» [50; 2].
Мы не берёмся сейчас судить, насколько верно Николай Фёдорович оценивал и конкретную ситуацию, связанную с «делом врачей», и процессы, имевшие место в общественной жизни Советского Союза конца 40-х годов прошлого столетия. Но бесспорны его активная гражданская позиция и его мужество. Как и в 1937 – 1938 гг., он не побоялся выступить в защиту своих коллег. И более того – дать оценку некоторым негативным явлениям, наметившимся, по его мнению, в советском обществе.
Оба письма Гамалеи к Сталину остались без ответа.
Однако и никаких «мер» к учёному применено не было. Как раз наоборот.
16 февраля 1949 года, в канун 90-летия академика, правительство страны наградило его вторым орденом Ленина в ознаменование юбилея учёного и за многолетний большой вклад в развитие науки и здравоохранения страны.
17 февраля, в день рождения Николая Фёдоровича, газета «Правда» поместила статью о нём. «Н.Ф. Гамалея, – говорилось в ней, – принадлежит к той славной плеяде русских учёных, которыми гордится советский народ и всё передовое человечество» [10; 24].
В этот же день на совместном торжественном заседании Академии наук СССР, Академии медицинских наук СССР и Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В.И. Ленина, посвящённом 90-летию Николая Фёдоровича Гамалеи и 65-летию его научной деятельности, Сергей Иванович Вавилов, президент АН СССР, обращаясь к юбиляру, сказал:
«Вы обогатили важнейшие разделы микробиологии весомыми экспериментальными данными и блестящими идеями, особенно об инфекции и иммунитете, своими трудами о борьбе с бешенством, чумой, холерой, оспой и другими смертоносными болезнями, вписали неувядаемые страницы в историю отечественной науки» [19; 5].
И «передовица» «Правды», и речь С.И. Вавилова – торжественные слова, сказанные в официальной торжественной обстановке. Но они полностью соответствовали истине!
Сам же Николай Фёдорович в одной из своих последних статей, фактически подводя жизненный итог, писал: «Высшая радость для учёного – сознавать, что его труды приносят пользу человеку» [49; 6].
Николай Фёдорович Гамалея своей жизнью, своими трудами принёс огромную пользу людям. Оглядываясь на прожитые годы, он смело мог сказать себе, что жизнь прожил не зря. Наверное, это и есть счастье для настоящего человека.
Николая Фёдоровича Гамалеи не стало 29 марта 1949 года, на 91-м году жизни. Он погребён на Новодевичьем кладбище в Москве.
ГЛАВА IV
ДАНИИЛ КИРИЛЛОВИЧ
ЗАБОЛОТНЫЙ
(1866 – 1929)
«Николай Васильевич объявил, что не желает никаких прощальных речей, но как он ни сердился, как ни теребил бородку, обводя стол умоляющим взором, а одну речь ему всё-таки пришлось выслушать.
Дед начал издалека – с истории Одесской бактериологической станции, которую Мечников основал в 1886 году. Однажды на эту станцию явился некий студент в клетчатых панталонах, потребовавший, чтобы его провели к доктору Никольскому.
– Я его спрашиваю: “Что вам угодно?” А он отвечает: “Доктор, я мечтаю отдать все свои силы науке”. Я ему говорю: “Но вы, по-видимому, франт? Это плохо вяжется с наукой”. А он: “Если вы имеете в виду эти брюки, доктор, так они принадлежат не мне, а моему товарищу Строгову. В моих брюках меня бы к вам не пустили”. Этот юноша в клетчатых панталонах и был Николай Васильевич Заозёрский…» [27; 419 – 420].
Так в романе «Открытая книга» Вениамин Каверин устами профессора Никольского (прототипом которого, как отмечалось, был Н.Ф. Гамалея) описал «приход в науку» Николая Васильевича Заозёрского. Прототипом последнего стал Даниил Кириллович Заболотный.
Нам не известно, имела ли в реальной жизни место описанная в романе сцена, так ли состоялся «приход в науку» Д.К. Заболотного и его первая встреча с Н.Ф. Гамалеей. Но, принимая во внимание обстоятельства биографии Даниила Кирилловича, можно с большой степенью вероятности предположить, что именно так всё и произошло в реальности.
* * *
Большая часть научной деятельности Даниила Кирилловича Заболотного приходится на дореволюционный период (около 27 лет в царской России и 12 лет в Советской). Но именно в советский период учёный увидел максимальную отдачу от своих научных усилий, именно в это время воплотились многие его мечты, касающиеся организации науки и здравоохранения в нашей стране. Он горячо и сразу принял Великую Октябрьскую Социалистическую революцию. И потому его можно с полным основанием называть не только русским, но и советским учёным.
Даниил Кириллович Заболотный родился в селе Чеботарка Ольгопольского уезда Подольской губернии (ныне – село Заболотное Крыжопольского района Винницкой области Украины) в семье простого крестьянина (не так давно переставшего быть крепостным) Кирилла Петровича Заболотного. Мать – Евгения Мироновна (урождённая – Сауляк).
По всем официальным дореволюционным документам (метрическому свидетельству, послужным спискам Д.К. Заболотного) Даниил родился 2 января 1867 года. Однако это – дата крещения ребёнка. Родился же он в декабре 1866 года: 16-го числа по старому стилю, 28-го по новому. Запись в метрической книге (повторившаяся во всех официальных документах дореволюционного периода) – либо свидетельство ошибки, которые часто случались при регистрации детей в сельской местности, либо сознательная «сдвижка» даты рождения ребёнка родителями с целью отсрочить последующий его призыв в армию («декабрьских» детей с этой цель нередко записывали «январскими»).
Как бы там ни было, во всех справочниках, энциклопедиях, книгах датой рождения Даниила Кирилловича Заболотного значится 28 (16) декабря 1866 года.
Отец Даниила хоть и не нищенствовал, но и богатым или чересчур зажиточным его назвать нельзя. Во всяком случае, Кирилл Заболотный с какого-то момента счёл более доходным делом работу на строительстве железной дороги. Умер он в 1877 году, когда Даниилу было всего десять лет. Ещё более маленьким был его брат Иван. Мать страдала туберкулёзом костей. В подобной ситуации семья была бы обречена на голодное существование, если бы не родственники со стороны матери.
Её отец Мирон Сауляк был волостным писарем. По тем временам – образованный и уважаемый человек. Должность давала некоторый доход и была пределом мечтаний для многих крестьян, которые попросту не могли пожелать лучшей доли для своих детей. Считалось, что ставшие волостными (сельскими) писарями выбивались в люди.
Приносимый должностью доход (жалованье и плата от безграмотных крестьян за написание прошений, жалоб, писем и т.п.) позволил Мирону отправить старшего сына Макара на учёбу в город. Последний окончил гимназию, а затем Новороссийский университет по технико-агрономическому отделу, работал преподавателем гимназии в Ростове-на-Дону.
«Этот замечательный человек, – вспоминал впоследствии Д.К. Заболотный, – посвятил свою жизнь на то, чтобы дать образование младшим братьям и сёстрам и вывести их в люди» [38; 4].
Мать Даниила Макару удалось «дотянуть» до 5-го класса гимназии. Четверо младших братьев получили образование достаточное, чтобы из слесарей и помощников машинистов на железной дороге, на которой они работали, выбиться в служащие и даже, по воспоминаниям Д.К. Заболотного, «дорасти» постепенно до «ответственных должностей» [38; 4].
Наиболее продвинуться, однако, благодаря Макару, удалось второму из братьев Сауляков – Василию Мироновичу. За его плечами также были гимназия и Новороссийский университет, после которого он остался жить и работать в Одессе.
Макар Миронович и Василий Миронович и взяли на себя заботу о детях сестры.
Сначала Даниил, переехав в Ростов-на-Дону к дяде Макару, заканчивает трёхлетнюю Нахичеванскую прогимназию. Затем перебирается в Одессу, к дяде Василию, где в 1880 году поступает сразу в 5-й класс Ришельевской гимназии. Учился Даниил на «отлично», явно проявляя способности по многим предметам.
В 1885 году он поступает на естественное отделение физико-математического факультета Новороссийского университета. Здесь его учителями становятся такие известные русские учёные как А.О. Ковалевский и Ф.М. Каменский. Успел «захватить» в университете Даниил ещё и И.И. Мечникова. Илья Ильич ушёл из университета в 1886 году. Тем не менее учёный запомнил талантливого студента «из простых», обладавшего не только склонностью к занятию наукой, но и поистине благородной душой.
Несмотря на финансовые трудности, Д.К. Заболотный всё-таки успешно достиг выпускного курса.
Но именно благородство души не позволило студенту-старшекурснику Д.К. Заболотному остаться в стороне от студенческой сходки, которую устроила в ноябре 1889 года группа студентов Новороссийского университета в знак протеста против отчисления ряда своих товарищей. Студентов отчислили не за нерадивость, а из-за их политических взглядов.
Инспектор доносил ректору университета:
«Во время беспорядков, произведённых в здании Новороссийского университета 20 ноября, находился в толпе студентов, также окончивших курс в сём году, Даниил Заболотный. На неоднократные предложения удалиться ответил отказом» [38; 5].
Итогом явилось отчисление Д.К. Заболотного из университета (21 ноября). Но на этом неприятности для него не закончились. Дело Заболотного было передано в жандармское управление. И уже 24 ноября Даниил был взят под стражу как политический преступник. Началось следствие.
Находясь в Одесской городской тюрьме, Заболотный тяжело заболел. Врачи диагностировали сердечную аритмию и ревматический полиартрит. В конце декабря 1889 года Даниила переводят в Одесскую городскую больницу. А 14 апреля 1890 года, по ходатайству родственников и группы профессоров Новороссийского университета (есть сведения, что ходатайство было поддержано И.И. Мечниковым, приславшим из Парижа соответствующе письмо), его выписывают из больницы для амбулаторного лечения на дому под гласным надзором полиции. Через год гласный надзор заменили на негласный.
Обрушившиеся на Даниила серьёзные неприятности (исключение из университета, арест, следствие и заключение, тяжёлая болезнь) не повлияли на его жизненный выбор – он хотел заниматься наукой.
Но как это сделать теперь? Казалось бы, от науки Заболотный теперь «отлучён» навсегда.
Но выход был найден: едва оправившись от болезни, Даниил Кириллович отправляется на Одесскую прививочную станцию.
«Потеряв возможность научной работы в университетских лабораториях, я нашёл приют в основанной незадолго перед тем И.И. Мечниковым Бактериологической Станции. Здесь началась моя научная работа…» – позднее писал Заболотный в автобиографии.
Правда, И.И. Мечникова на станции уже не было – он покинул Россию и в 1890 году работал в Париже, в институте у Пастера.
Станцией заведовал в то время Николай Фёдорович Гамалея. Вот тогда-то и могла состояться сцена, подобная той, которую описал в своём романе В. Каверин («приход в науку» будущего профессора Николая Заозёрского и его встреча с доктором Николаем Никольским).



