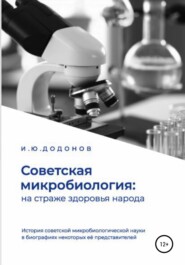 Полная версия
Полная версияСоветская микробиология: на страже здоровья народа. История советской микробиологической науки в биографиях некоторых её представителей
Но, как мы помним из предыдущей главы, Н.Ф. Гамалея был «очень занятым одесситом» – огромный объём научной и организаторской работы попросту не позволял ему взять научное руководство над молодым сотрудником. К тому же жил Николай Фёдорович в конце 80-х – начале 90-х годов XIX века «между Одессой и Парижем», ежегодно отправляясь в научные командировки в Пастеровский институт.
Словом, в мир микробиологии Даниила Кирилловича вводил заместитель директора Одесской бактериологической станции, так же, как и Н.Ф. Гамалея, ученик И.И. Мечникова, Яков Юльевич Бардах (1857 – 1929)11. Под его руководством Д.К. Заболотный выполнил своё первое научное исследование: им были изучены микроорганизмы снега и лиманной воды (выявлена причина свечения одесских лиманов – описан новый вид светящихся инфузорий). Оно было оформлено как дипломная работа. В мае 1891 года поднадзорного Даниила Заболотного, благодаря поддержке ряда профессоров Новороссийского университета, допустили к сдаче государственных экзаменов экстерном. А 11 августа он получил диплом I степени об окончании Новороссийского университета. Кстати, его исследование, послужившее основой дипломной работы, выполненное на высоком научном уровне, было опубликовано в 1892 году в «Записках Новороссийского общества естествоиспытателей».
Для успешной работы в области микробиологии, которой Д.К. Заболотный решает посвятить свою жизнь, требовалось получение медицинского образования. Даниил Кириллович поступает на медицинский факультет Киевского университета (как окончившего естественное отделение Новороссийского университета его принимают сразу на третий курс).
Учёбу он совмещает с работой на кафедре общей и экспериментальной патологии медицинского факультета Киевского университета под руководством профессора В.В. Подвысоцкого (1857 – 1913), известного патолога, эндокринолога и микробиолога.
Здесь предметом изучения Д.К. Заболотного становится возбудитель холеры. Экспериментировал учёный с сусликами. Эти животные высокочувствительны к холерному вибриону. Но Заболотному удалось добиться их невосприимчивости к инфекции посредством вакцинации культурой убитых холерных микробов через рот. Т.е., по сути, Д.К. Заболотный пошёл тем же путём, которым немного раньше прошёл Н.Ф.Гамалея, создав свою убитую вакцину.
Но суслики сусликами, а действенность подобного вакцинирования необходимо было установить на человеке.
И, естественно, Даниил Кириллович поставил эксперимент на себе. «Компанию» ему составил Иван Григорьевич Савченко, в будущем – известный российский и советский микробиолог, а тогда – помощник прозектора на кафедре патологии медицинского факультета Киевского университета.
Молодые исследователи иммунизировали себя в течение 20 дней, после трёхдневного перерыва провели ревакцинацию, а затем приняли по 0,1 мл культуры живых вирулентных вибрионов холеры.
Вот протокол эксперимента, составленный собственноручно Д.К. Заболотным:
«1 мая (1893 года – И.Д.), в 11 час. 30 мин. утра, натощак, осреднив свой желудочный сок приёмом куб. см. 1%-го раствора соды, мы, в присутствии проф. Подвысоцкого и Ф.А. Леша, а также работающих в лаборатории, приняли в воде по 0,1 куб. см. 24-часовой бульонной разводки холерных вибрионов, выращенных при 37 градусах Цельсия. Чистота разводки была здесь же проверена проф. В.В. Подвысоцким.
Одновременно из этой же пробирки двум взрослым кроликам в брюшную полость было впрыснуто: одному – 0,5 куб. см. разводки, а другому – 1 куб. см. Один из кроликов погиб к вечеру, другой – ночью, то есть не дожив до суток.
Наша диета всё время после опыта оставалась нормальной. Самочувствие после опыта было вполне удовлетворительным, никаких болезненных явлений не замечалось с самого начала опыта и до его последнего времени (9 мая)…» [18; 10 – 11].
Итак, у Заболотного и Савченко заболевание не наступило! Таким образом, ещё раз (после Гамалеи) была подтверждена действенность убитой противохолерной вакцины, что явилось дополнительным аргументом в пользу начала её производства и широкого использования.
Было в эксперименте Заболотного и нечто новое (как бы сказали сейчас – инновационное): впервые для иммунизации человека была применена агаровая культура микроорганизмов.
В 1894 году Д.К. Заболотный окончил медицинский факультет. Поскольку на нём он учился на казённую стипендию, то предстояло долг перед казной «отработать». Точнее – полтора года отслужить в армии (конечно же, по полученной специальности, т.е. военврачом).
Однако до призыва на военную службу молодой врач успевает поработать на эпидемиях холеры и дифтерии в Подольской губернии. Для борьбы с дифтерией тогда впервые в широком масштабе начала применяться противодифтерийная сыворотка. Причём производилась она методом, разработанным учителем Д.К. Заболотного Я.Ю. Бардахом. Как вспоминал Даниил Кириллович: «…Мне пришлось испытать её благоприятное действие в глухих деревушках на больных, а также на самом себе после случайного заражения дифтеритом от ребёнка, кашлянувшего при исследовании в лицо» [38; 7].
Поздней осенью 1894 года Д.К. Заболотный был определён младшим военным врачом в 132-й пехотный Бендерский полк. Здесь он прослужил немногим более года, и приказом от 1 декабря 1895 года был переведён в Киевский военный госпиталь для усовершенствования в хирургии, офтальмологии, а также практического ознакомления с бактериологическими и гигиеническими методами исследования. Это практическое ознакомление, в частности, выражалось в том, что Д.К. Заболотный заведовал заразным отделением и лабораторией Киевского военного госпиталя.
В последние полгода военной службы Даниил Кириллович смог вернуться и к своим научным занятиям: он возобновил работу на кафедре у В.В.Подвысоцкого. Кроме того, как секретарь редакции принял участие в издании журнала «Архив патологии, бактериологии и клинической медицины», основанного В.В. Подвысоцким.
Демобилизовался Д.К. Заболотный в середине 1896 года.
Он продолжил работу на кафедре патологии медицинского факультета Киевского университета, совмещая исследовательскую и преподавательскую работы.
Надо сказать, что Д.К. Заболотный очень быстро стал одним из любимейших у студентов преподавателей. Николай Стражеско, будущий известный кардиолог, обучавшийся тогда на медицинском факультете Киевского университета, описывал Даниила Кирилловича и его лекции так: «…Всегда скромно одет, говорил тихо, но чётко. А ещё, увидев усталость студентов на вечерних практических занятиях, неожиданно рассказывал им какой-нибудь анекдот или смешной эпизод из своего детства – его студенты никогда не скучали на лекциях» [57; 2].
Эти шуточные отступления на лекциях и практических занятиях были своеобразным педагогическим приёмом Д.К. Заболотного – давая студентам короткую передышку, он оживлял их внимание.
Впрочем, не стоит думать, что Даниил Кириллович был этаким «говоруном» и «рубахой-парнем», зарабатывая тем самым дешёвую популярность. При всей свое простоте и открытости как преподаватель он был строг и требователен.
Сверх того, студентам были известны и некоторые факты биографии преподавателя, который был немногим старше их (Заболотному тогда едва исполнилось 30 лет): тюремное заключение за участие в студенческих волнениях, окончание двух факультетов (естественнонаучного и медицинского), наличие нескольких опубликованных научных работ, испытание на себе действия противохолерной вакцины, участие в борьбе со вспышками холеры и дифтерии на Подольщине (да ещё и заболевание дифтерией в ходе ликвидации эпидемии). Заметим: обо всех этих событиях в жизни Заболотного студенты узнавали отнюдь не от него самого. Даниила Кирилловича всегда (даже когда он стал именитым учёным) отличала неподдельная скромность.
В общем, студенты уважали и любили Заболотного совершенно искренне и, как говорится, за дело.
28 января 1897 года можно считать началом первой противочумной экспедиции Д.К. Заболотного. Именно в этот день состоялось решение о его командировании в Индию для борьбы с разразившейся там эпидемией чумы.
Здесь необходимо вернуться на несколько лет назад.
Эпидемия чумы вспыхнула весной 1894 года в Кантоне, вскоре она перекинулась в Гонконг. Как раз там, в Гонконге, ученику Пастера, швейцарскому микробиологу Александру Йерсону, удалось выделить возбудителя чумы из лимфоузлов погибших от этой болезни английских солдат.
Чума довольно быстро распространилась по ряду провинций Китая, а в 1896 году появилась в Индии. В этой стране эпидемия в короткий срок унесла почти 3 миллиона жизней. Возникла реальная угроза распространения эпидемии по всему миру.
Ряд европейских стран принимает решение послать в Индию научные миссии во главе с наиболее известными микробиологами. Причём Великобритания «сделала ставку» на русского учёного, эмигранта, ученика Мечникова и Пастера – Владимира Хавкина, который уже прославился успешным применением своей противохолерной вакцины в той же Индии.
Не осталась в стороне от коллективных усилий и Россия. 11 января 1897 года Императорским Указом Правительствующему Сенату учреждается «Особая комиссия для предупреждения занесения чумной заразы и борьбы с нею в случае её появления в России» Это громоздкое название вполне официально сокращали как КОМОЧУМ. Председателем комиссии был назначен попечитель Императорского Института экспериментальной медицины (ИИЭМ или просто ИЭМ) принц Ольденбургский, его заместителем по научной части – известный учёный, заведующий Отделом эпизоотологии ИЭМ А.А. Владимиров.
КОМОЧУМ принимает решение об организации экспедиции в Индию. Её главой назначается киевский профессор В.К. Высокович. Он начинает подыскивать себе надёжного помощника, и профессор В.В. Подвысоцкий рекомендует своего ученика Д.К. Заболотного.
Так Даниил Кириллович стал членом русской научной миссии, направляемой в Индию для борьбы с чумой.
«Эта поездка, – напишет Даниил Кириллович в своей автобиографии, – дала мне возможность испробовать исследовательские силы и посмотреть, как работают мировые учёные» [38; 10].
Более того, именно экспедиция в Индию определила главный научный интерес Заболотного: с 1897 года борьба с чумой станет основным его делом в науке, да и, пожалуй, основным делом его жизни. Уже будучи в преклонном возрасте, имея за плечами годы научной работы, он сам называл себя (как бы в шутку) «старым чумагоном», тем самым признавая, что победе над «царицей заразных болезней» были отданы главные его усилия.
Но всё это будет впереди, в будущем. А пока Даниил Кириллович начинает деятельную подготовку к встрече с опасным врагом, которого он знает пока только теоретически, по книгам и учебникам.
Академик В.Л. Омелянский, близкий друг Д.К. Заболотного, так описал деятельность последнего при подготовке к Индийской экспедиции:
«Плохо владея английским языком, он стал усердно изучать его; надо было в короткий срок собрать лабораторию, снабдить её всем необходимым; надо было заранее наметить план работ на месте – словом, он был весь в расходе, и в лаборатории его редко можно было видеть. Но уже тогда он обратил на себя всеобщее внимание как талантливый, многообещающий работник» [38; 10].
28 февраля 1897 года русская научная миссия выехала из Киева. Она была совсем невелика: кроме возглавлявшего её профессора В.К. Высоковича и его помощника Д.К. Заболотного, в неё входили всего два человека – врач Е.А. Редров и служитель Петров.
Сначала экспедиция прибывает в Петербург, затем через Польшу и Австро-Венгрию – в Италию. Отсюда пароходом через Адриатическое и Средиземное моря, Суэцкий канал и Индийский океан достигает Бомбея.
В городе уже работали австрийская, германская (во главе с Р. Кохом), египетская, итальянская и французская (во главе с А. Йерсоном) миссии. Конечно же, были здесь и англичане, которых возглавлял В. Хавкин.
За короткий срок (три месяца) русская экспедиция проделала огромную работу. Прежде всего, осуществлялись лечебные и санитарные мероприятия. Для лечения чумы (в Бомбее она была в бубонной форме) наши учёные использовали противочумную сыворотку производства ИЭМ, разработанную на основе сыворотки Йерсона и ничем ей не уступавшую (сам Йерсон работал со своей сывороткой; В. Хавкин проводил вакцинацию, т.е. делал предохранительные прививки, посредством т.н. «лимфы» собственной разработки).
Однако В.К. Высокович, Д.К. Заболотный и Е.А. Редров осуществляли ещё и большую исследовательскую работу. О чуме тогда было известно ещё крайне мало, и такие исследования в очаге эпидемии, с огромным риском для жизни, позволяли получать сведения как о возбудителе этой опасной болезни, так и о её течении и путях передачи.
Ценные наблюдения были сделаны в ходе вскрытия трупов умерших от чумы людей. Надо заметить, что русские учёные оказались не единственными, кто рисковал вскрывать чумные трупы. Этим занимались ещё немцы (препарировали 27 трупов) и австрийцы (препарировали 48 трупов). Высокович, Заболотный и Редров за более короткий срок вскрыли 66 тел. Но дело тут не в количественном рекорде. Именно нашим учёным на основе производимого при вскрытии анализа удалось детально изучить изменения в человеческом организме и окончательно разграничить две клинические формы инфекции – бубонную и лёгочную. При этом выяснить, что обе формы вызываются одним и тем же возбудителем (в зависимости от «входных ворот» инфекции – через повреждённую кожу или через дыхательные пути). Было установлено, что сыворотка крови переболевших чумой людей способна агглютинировать (склеивать) чумные бактерии.
Также ставились опыты на обезьянах. Оказалось, что большинство местных пород обезьян невосприимчивы к чуме. Только одна порода, именовавшаяся «африканской» (серые обезьяны с чёрной кожей на лице и на кистях конечностей), подвергалась заражению. У 96 животных удалось воспроизвести экспериментальную инфекцию. Это позволило сделать ряд ценных наблюдений относительно механизмов развития болезни и невосприимчивости к ней. В частности, Д.К. Заболотным наблюдалось явление фагоцитоза у заражённых чумой обезьян: фагоциты «боролись» с чумными бактериями. Подобное наблюдение подтверждало теорию Мечникова, согласно которой фагоцитоз является одним из главных факторов врождённого иммунитета.
Результаты работы русской экспедиции на чумной эпидемии в Бомбее были переданы Королевскому научному обществу в Лондоне и опубликованы в трудах 3-го Международного медицинского конгресса.
Для Д.К. Заболотного, тогда ещё молодого учёного, научная миссия в Индию оказалась прекрасной школой. Стремясь раскрыть загадку возникновения эпидемий чумы, он, по сути, пришёл к формированию нового научного направления – эпидемиологии.
Этот факт выразился в том, что, в отличие от своих товарищей по экспедиции, Даниил Кириллович после её окончания не сразу вернулся в Петербург. Ему удалось «выхлопотать» себе командировку в Джидду (Аравия) сроком на месяц для изучения вспышки чумы в данном регионе.
После возвращения в Петербург в августе 1897 года Заболотного вскоре командируют в Париж. Цель поездки – проведение в Пастеровском институте исследований по чуме, обобщающих полученные в ходе экспедиции в Индию результаты. Руководителем исследований должен был выступить И.И. Мечников.
В ходе полугодовой работы в Институте Пастера были достигнуты ощутимые результаты. Вице-директор института Эмиль Ру после её окончания в письме-отчёте принцу Ольденбургскому от 14 марта 1898 года писал следующее:
«Ваше Высочество!
Г-н Мечников и я выражаем Вам признательность за ту поспешность, с которой Вы разрешили г-ну д-ру Заболотному продолжить работу в Институте Пастера.
Наши опыты с противочумной сывороткой, изготовленной при помощи растворимого токсина, весьма удовлетворительны. Они вселяют в нас надежду на возможность излечения чумы в большинстве случаев заболевания и на предупреждение этой болезни путём предохранительных инъекций…» [38; 13 –14].
Т.е. одним из результатов работы Д.К. Заболотного в Париже явилось создание новой противочумной сыворотки, которая, судя по восторженному отклику Ру в письме принцу Ольденбургскому, показывала более высокую эффективность, чем сыворотка Йерсона.
В бытность Д.К. Заболотного в Париже в его жизни произошло знаменательное событие: 3 января 1898 года он был награждён первым своим орденом (за участие в Индийской экспедиции) – Св. Анны III степени.
Попечитель Императорского Института экспериментальной медицины принц Ольденбургский по достоинству оценил способности молодого учёного и устроил его перевод в Петербург. 31 марта 1898 года Даниил Кириллович начинает свою работу в ИЭМ. С этим научно-исследовательским учреждением Д.К. Заболотный будет связан долгие годы.
В частности, учёный много работал в так называемом «Чумном форте», который являлся лабораторией-филиалом ИЭМ, а в 1904 и 1907 годах даже временно им заведовал.
«Особая Лаборатория при Императорском Институте экспериментальной медицины» – таково официальное название «Чумного форта».
Решение о создании этой лаборатории было принято в январе 1897 года. Причиной, его вызвавшей, явились опасения правительства, властей Санкт-Петербурга и самого царственного попечителя ИЭМ (т.е. принца Ольденбургского), что наличие возбудителя чумы в пределах городской черты столицы может привести к возникновению в ней эпидемической вспышки в случае каких-либо непредвиденных осложнений в стенах института. Напомним, что ИЭМ занимался производством противочумной сыворотки. А для производства её (для иммунизации лошадей, из крови которых препарат приготовлялся), конечно же, требовалась чумная бактерия. И хотя система противоэпидемической защиты в ИЭМ была весьма надёжна, но, как говорится, «бережёного бог бережёт» – производство противочумной сыворотки предпочли вынести за пределы Санкт-Петербурга.
Идеальным местом был сочтён кронштадтский форт «Император Александр I» (или просто – «Александр I»). В связи с потерей оборонительного значения форт был выведен из системы фортификационных сооружений Кронштадтской крепости. Его-то и решено было передать под оборудование лаборатории-филиала ИЭМ, предназначенной для производства противочумной сыворотки и проведения исследовательских работ по чуме, т.е. с возбудителем чумы и протеканием чумной инфекции в макроорганизме. Оттого и возникло неофициальное название этой лаборатории – «Чумной форт».
Вот какое описание «Чумного форта» дал известный русский микробиолог С.Н. Виноградский (сначала руководитель одного из отделов ИЭМ, а затем и глава всего института):
«Торчит его гранитная масса из кронштадтских вод на некотором расстоянии от города (т.е. Кронштадта – И.Д.), поднимая свои стены прямо из воды. Небольшая дамба позволяет к нему причалить и проникнуть в тесный, сдавленный гранитный массивный двор» [38; 17].
Работы по переоборудованию форта были начаты 27 февраля 1897 года, а закончены спустя два года и пять месяцев – 27 июля 1899 года.
При строительстве и оборудовании лабораторного комплекса использовались новейшие по тому времени технологии, применялись оригинальные и даже уникальные инженерные решения (например, был сконструирован и запущен первый в мире лифт для подъёма лошадей).
С.Н. Виноградский в уже цитировавшемся описании говорит о переоборудованном форте следующее:
«Во двор выходят помещения для животных и трупосжигательная печь, внутри лабораторные помещения, очень благоустроенные, снабжённые всем необходимым, квартиры для персонала, для прислуги – всего 20 – 25, газ, электричество, собственный пароходик» [38; 17].
В этом научном комплексе проводил основную массу своих «чумных» исследований Д.К. Заболотный.
Уже в 1898 году Даниил Кириллович возобновляет преподавательскую деятельность. Он организует в Петербургском женском медицинском институте первую в России кафедру бактериологии и начинает читать студенткам курс по этой дисциплине. Шесть лет спустя, в 1904 году, Д.К. Заболотный станет экстраординарным профессором на данной кафедре. В 1907 году организует привет-доцентуру при ней, «выбьет» для неё отдельное здание, где будет оборудовано 11 лабораторных комнат. В августе 1909 года он будет утверждён в звании ординарного профессора кафедры бактериологии Женского медицинского института.
И снова, как и в Киевском университете, Д.К. Заболотный становится «любимчиком», только на сей раз не студентов, а студенток. И, разумеется, одной из любимых в институте дисциплин становится читаемая им бактериология. Врач первого выпуска ЖМИ (Женского медицинского института) О.М. Боголюбова вспоминала:
«Д.К.Заболотный на своей кафедре был всем: и профессором, и ведущим практические занятия, и приготовляющим материал. Он был очень молод, смущался, как неопытный лектор, хотя за ним была слава крупного эпидемиолога (по чуме) и бесстрашного экспериментатора. Он уже проделал свой знаменитый опыт с проглоченными живыми культурами холерных вибрионов. Д.К. Заболотный являлся энтузиастом своего дела, увлекающимся педагогом и хорошим товарищем. Вскоре бактериология завоевала сердца медичек, и с нею могла соперничать лишь гистология во главе с профессором А.С. Догелем, учёным с мировым именем» [38; 18 – 19].
Действительно, Даниил Кириллович отдавал много сил организации и обеспечению преподавания курса бактериологии в ЖМИ, который вскоре его стараниями превратился в образцовый. Со всех концов России устремились к нему врачи для специализации. Не приходится удивляться и тому, что многие студентки-медички избрали своей специальностью микробиологию, и некоторые из них стали известными учёными, профессорами и докторами наук (например, В. Дембская, О. Подвысоцкая, А. Городкова и ряд других).
Однако всё-таки обратим внимание на «временной разрыв» от момента начала преподавания Д.К. Заболотного в Петербургском женском медицинском институте и организации в нём кафедры бактериологии до момента, когда он стал на этой кафедре хотя бы экстраординарным профессором, – шесть лет. Не говоря уже об его ординарной профессуре, – одиннадцать лет.
Причина подобных длительных сроков была проста: в последние годы XIX века и первые годы ХХ столетия Даниил Кириллович – активнейший участник и организатор многочисленных «чумных» экспедиций, которые имели целью как исследование чумы, так и борьбу с нею (т.е. это были экспедиции в эпидемические очаги). В эти годы Д.К. Заболотный и в стенах ИЭМ, т.е. по месту «основной работы», появлялся довольно редко. Служба в Институте экспериментальной медицины заключалась большей частью именно в участии в экспедициях.
Так, в 1898 году молодой учёный совершает поездки в Монголию и Китай, в 1899 году – в Иран, Аравию и Месопотамию, в 1900 году – в Шотландию (Глазго), Португалию и Марокко. В этом же году работает на чумной вспышке в Поволжье (в селе Владимировка Астраханской губернии). В последующие несколько лет Д.К. Заболотный борется с чумой в городе Кыштым Пермской губернии, в Саратовской, Подольской и Бессарабской губерниях, на Кавказе и в Казахских степях, принимает участие в ликвидации чумы в Одессе в 1902 году.
5 марта 1900 года за активную деятельность по борьбе с чумными эпидемиями Даниила Кирилловича награждают орденом Св. Станислава II степени (это был уже второй орден, полученный учёным).
Быстро рос Д.К. Заболотный и по служебной лестнице: 3 июня 1901 года ему присваивают чин титулярного советника, через три недели (т.е. 24 июня того же года!) – коллежского асессора, спустя год (9 июня 1902 года) – он уже надворный советник, что равнялось званию армейского подполковника.
В общем-то, «награды, почести и звания» были Заболотным вполне заслужены. Но нельзя не отметить, что получал он их, в основном, только благодаря своей работе в привилегированном научно-исследовательском учреждении, находившимся под патронажем императорской фамилии, т.е. в ИИЭМ. Немалое количество русских врачей и учёных-микробиологов героически боролись с многочисленными в Российской империи эпидемиями, не получая от царского правительства вообще ничего – не только «почестей и званий», но даже минимальных средств для своей работы (многие противоэпидемические мероприятия финансировались земствами; нередки были случаи, когда врачи и учёные, будучи людьми отнюдь не богатыми, тратили свои деньги на их проведение).
Но к чести Даниила Кирилловича надо сказать, что на весь этот «официоз» он обращал мало внимания, никогда не придавал никакого значения царским орденам, чиновным должностям, званиям и деньгам. Даже «обласканный» властью, он оставался, прежде всего, порядочным и добрым человеком и настоящим учёным.
В этой связи хотелось бы привести три характеристики Заболотного, данные ему знавшими его людьми.
Одна из них касается внешнего облика Даниила Кирилловича в первые годы ХХ столетия, облика, который никак не вяжется с довольно высокопоставленным чиновником «от медицины». Описание принадлежит Петру Матвеевичу Красавицкому (сотруднику ИИЭМ):



